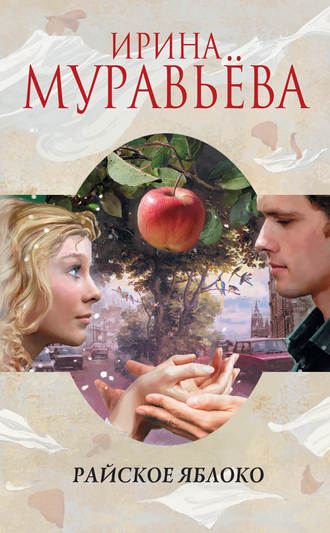
Райское яблоко
Немолодому уже фавну, с головы до ног заросшему золотой шерстью, приходилось сталкиваться с разными вещами на свете, начиная от излечимых венерических болезней и кончая временной немилостью начальства. Но с одним испытанием он не сталкивался никогда: не было на земле женщины, которая не уступила бы его желанию. И быть не могло такой женщины – фавны свое дело знают. Да, и от него уходили. Нопосле. И он отпускал. Был широк, ненавязчив. Черпал этих женщин, как воду из речки. Вот раз зачерпнул – оказалась брюнетка. Другой зачерпнул – оказалась блондинка. А кто это там под корягой-то прячется? Скажите какая! Наверно, шатенка. Не знал он им счета, не помнил имен.
А тут оказалось: лесная сторожка, и в ней живет баба, жена лесника. И он, режиссер, зашел к бабе напиться. А вышел ни с чем.
Но лучше подробно. Снимали под Вильнюсом. Известно, что дивной своей красотой, своими озерами, реками, чашами бездонной воды в самом сердце лесов, своими долинами, дюнами, даже внезапными скалами эта земля обязана лишь леднику. Был ледник, который прошел по ней, снес, разломал все сущее и отступил, не вернулся. Вполне человеческий тип поведения. Она же, земля, потужив и помучившись, вдруг вся зацвела, вся от слез заблистала. Ледник ей оставил так много воды! Она ее выпила и излечилась. Но мало того: обнаружилось что-то, чего раньше не было. Суровая твердость людей и природы. И даже деревья, которые жадно и так ненасытно шумят, задыхаясь, роняя листву, – даже эти деревья и то уверяют сквозь хрип и удушье, что в них есть живучесть, которой не знают другие, рожденные в ласке и неге.
Снимали в лесном заповеднике. Сказка! И Зверев рычал от восторга, урчал. Такая природа спасет любой фильм. Она – красота. Красота спасет мир. Совсем не дурак был больной Достоевский, хотя сладострастник. Но Бог нам судья: пусть мы сладострастники с Федор Михалычем, но не идиоты, нет, не идиоты! Вот рукопись про идиота – пожалуйста. Позвольте аванс. Фавн смеялся спросонья: приходит же в голову черт знает что! Закончился пятый день съемок. Все было прекрасно, но не было женщины, а фавну хотелось любви.
Чувствуя, как все тело его горит под рубашкой, он, в огромных резиновых сапогах, с поблескивающей в бороде паутиной, сбивая сучковатой палкой головки невинных ромашек, отправился в лес. Пройдя километра четыре, не больше, увидел добротный бревенчатый дом без забора. За домом был пышный, большой огород, капуста лежала на грядках, как головы. Лесничий, наверно, живет. Больше некому.
Звереву вдруг отчаянно захотелось пить. Он поднялся по ступенькам и толкнул дверь. Она, заворчав, поддалась. Он оказался в просторных сенях, где на газетах, разостланных по всему полу, сушились цветы и коренья, поэтому запах стоял, как в лесу. Окошка здесь не было, и в полумраке неясно белели все те же ромашки, которых он столько убил по дороге. Сбоку была еще одна дверь, и Зверев постоял секунду, раздумывая, можно ли постучаться, но дверь отворилась, и выросла женщина.
Ведь он думал как? Все на свете – сценарий. Идешь вот по улице и ненароком вдруг плюнешь на маленький радужный листик. Ты думаешь, это ты просто так плюнул? Отнюдь! Это тоже сценарий. Снимаем! Лежал себе листик, и шел человек. Он плюнул, попал ненароком на листик. Судьба их свела. Ненароком, невольно, но ведь не поспоришь. Остался сей листик немного жемчужным от горькой слюны, в то время как беглый зрачок человека, ушедшего дальше, унес его образ внутри своей памяти. Конечно, пример, может, и не из лучших, не самый изысканный, в общем, пример, но все же, но все же…
Пока Зверев шел по литовскому лесу, топча его травы, сбивая цветы, он так понимал и свою, и чужую – и прошлую, и настоящую – жизнь: сценарий. Один, другой, третий. Снимаем! Артисты готовы?
И вдруг что-то щелкнуло. Остановилось.
Выросшая на пороге женщина была высокого роста и крепкого стройного сложения. Тело ее четко обрисовывала длинная, но тонкая холщовая рубашка с сильно открытым воротом, в котором вспыхнувшие глаза фавна тотчас же увидели, где начинается высокая сильная грудь. Она не носила ненужный бюстгальтер, и грудь глубоко и свободно дышала под серою тканью. Соски проступали сквозь ткань и темнели. Он остолбенел.
– Извините меня, – сказал он смущенно. – Снимаем кино в заповеднике вашем, и вот заблудился. Гулял…
– Да тут не заблудишься, – с жестким акцентом сказала она. – Дорога тут рядом.
Большие янтарные бусы желтели на матовой шее.
– Красивые бусы, – сказал он игриво и сделал какой-то двусмысленный жест, как будто желая потрогать.
Она отступила на шаг. Глаза ее вдруг потемнели, и злоба наполнила их, как вода возьмет да наполнит глубокие впадины.
– Дорога налево. – Она отвернулась, словно брезгуя Зверевым. – Отсюда два шага, вы не потеряетесь.
– Нельзя ли попить? – Он стал прост и серьезен. – Брожу здесь, брожу… Словно заколдовали… Такой красоты я нигде не встречал.
Она усмехнулась.
– Нам тоже здесь нравится.
– Кому это нам?
– Нам с мужем. Живем здесь одиннадцать лет, и не скучно. Про город и не вспоминаем.
– Ну, город! – воскликнул он даже немного угодливо. – Какое сравнение с городом! Что вы! Я сам бы тут жил, и с большим удовольствием!
Она не ответила и посмотрела на грязные, в мокрой налипшей листве, его сапоги.
– Вы хотели попить?
– О, да, – сказал Зверев и вдруг оробел.
– Тогда вы разуйтесь, пожалуйста, – властно сказала она. – Я помыла полы.
Он начал стягивать сапоги и ужаснулся – на левом носке была дырка с кулак. В комнате, куда он прошел следом за нею, стыдясь звонкого шлепающего звука, издаваемого его голой, пролезшей в дыру, крупной пяткой, вся мебель была очень светлой, из дерева, и много хранилось народных изделий литовского непокоренного творчества.
– Садитесь, сейчас принесу вам попить, – сказала она, собираясь уйти.
– Зовут-то вас как? – спросил Зверев.
– Неждана, – сказала она и ушла.
Его прошиб пот.
– Вот здрасте! Неждана! Конечно, Неждана! Ведь разве я ждал, что наткнусь на такую!
Она через минуту вернулась с подносом, на котором стояли два кувшина: один, запотевший, с водой, а другой с молоком.
– Пожалуйста, пейте, – сказала она. – Вот кружка.
Он ей подмигнул:
– Выпьем с горя! Где же кружка?
Неждана нахмурилась, он замолчал. Налил себе в кружку воды, стал пить, но при этом уже не сводил с нее бешеных глаз. Мысленно он давно стащил с нее эту холщовую рубаху, давно повалил на кровать и теперь неистово гладил высокую грудь. Осталось немного – допить эту воду, взять женщину за руку…
– Спасибо, – сказал он и быстрым движеньем схватил ее за руку.
– Пустите, – негромко сказала она.
Он выпустил руку, но сердце забилось так сильно, что даже шум леса уже не был слышен.
– Идите отсюда.
– Мне можно вернуться? – спросил хрипло Зверев.
– Нельзя. Я сказала – идите.
– Вы сердитесь?
Он чувствовал даже отчаянье: женщинахотела, чтобы он ушел, и лицо ее, особенно эти глаза с их презреньем ему говорили об этом. Она не играла и не притворялась. Зверев прожил на свете сорок девять лет, но такого с ним никогда не случалось: крепкая душа его из всего извлекала если не выгоду, то хотя бы прямое удовольствие, а тут получилось, что нет ни того, ни другого, а нужно уйти. К Неждане тянуло его все сильнее. Не мог он уйти, его ноги не слушались.
Она уже дверь распахнула:
– Идите.
Красный и потный, он обувал свои резиновые сапоги, а женщина стояла над ним и равнодушно смотрела. Она видела и проклятую дыру на левой пятке, и неловкие движения его вдруг отяжелевших рук, слышала, как он сопит от напряжения. Зверев спустился по ступенькам, пошел, не оглядываясь, через молодую посадку елей. Навстречу ему шел невысокий коренастый человек с черными и короткими курчавыми волосами. Он понял, что это и был ее муж, лесничий, и он шел домой, то естьк ней. Они с режессером едва не столкнулись.
Лесничий приподнял картуз:
– Labas![11]
Зверев хмуро кивнул. Нескольких секунд хватило, чтобы увидеть, что лесничий моложе его лет на пять или восемь, и крепок, как дуб, и, судя по этой спокойной походке, уверен и нетороплив. Он быстро представил себе, как лесничий ложится с ней ночью в постель, и она снимает сорочку спокойным движением. Потом он берет ее крепкое тело, ласкает ей груди. Его чуть не вырвало от омерзения.
Знаменитый режиссер и сам не понимал, что это вдруг накатило на него. Случался и раньше азарт – да какой! Смертельный, на грани почти что безумья, когда у друзей отбивал их подруг. И не уверяйте, что это есть подлость. Не хочется женщине, так хоть умри – она никогда ни за что не уступит. А если зрачки закатила под веки и попу отклячила, как негритянка, тогда бери смело: тебе предложили. Он именно так поступал – шел и брал. Однажды увел с собой даже невесту со свадьбы, где был Михалков. Сидела в фате, кареглазая, скромная. И что? Ничего. Улизнули тихонько, уехали в Питер, там сняли гостиницу. Проснулись, и кончилась сказка. Сценарий был короток, неинтересен. Невеста от всех пережитых волнений весьма подурнела, от ног ее пахло: наверное, туфли ей были малы. Он сам попросил Михалкова вмешаться. Никита смеялся до слез. Утряслось, и Зверев забыл о дурацкой истории. Случались, конечно, серьезные встречи, и даже (нечасто!) мелькала любовь, хотелось уюта, тепла, ребятишек… Но все это мельком, невнятно, случайно. Сегодня вот хочется, вынь да положь! А завтра проснешься и – ну вас всех в баню! Куплю-ка себе лучше зимний пейзаж. Мети, мети, вьюга! Пой песни, ямщик!
Съемочная группа была очень удивлена, узнав, что весь отснятый материал не годится. А стало быть, в светлом литовском лесу придется остаться еще дней на пять. Охотничий терпкий инстинкт подсказал, что если и будет победа над этой весьма вкусной дичью с ее янтарями, с глазами наглее, прозрачней и глубже, чем все эти их водоемы литовские, то это случится не скоро, не завтра, и времени нужно побольше, побольше! Зайти надо с разных сторон, не спешить, а как только вынырнет эта русалка, как сядет погреться на камень зеленый, так тут готовь невод и не промахнись.
Поэтому он и сказал коллективу:
– Снимать будем заново, не получилось.
Вместо пяти дней задержались на всю неделю. Работали, много купались и пили. А вечером пели. Все как полагается.
Зверев сообразил, что застать ее одну можно только в первой половине дня. Лесничий уходит смотреть за хозяйством. Он не стал раздумывать: поехал в городок, зашел в ювелирный магазин. Выбрал золотые серьги с маленькими рубинами. Засунул коробочку в куртку. Неждана была в огороде, полола. Он так и застыл. В косынке вишневого темного цвета, а из-под косынки коса до земли. Рубашка белее, чем снег. Солнце светит на голые руки, на статные плечи. Он остановился, окликнул. Нахмурилась.
– Опять вы?
Акцент еще жестче, глаза еще злее.
– Смотрите, – сказал он, смеясь. – Нашел вот сейчас на дороге.
И жестом, немного смущенным, но быстрым, отдал ей коробочку. Она посмотрела на серьги и тут же вернула, едва ли не бросила:
– Уйдите отсюда и не приходите.
Он спрятал покупку обратно в карман.
– Неждана, ведь я режиссер, я художник. Нельзя же ведь мне запретить любоваться…
– Уйдите, а то я собаку спущу.
Она закусила губу, побледнела.
– Неждана! Да что я вам сделал?
– Уйдите.
И резко стянула косынку.
– Уйду, – сказал тогда Зверев. – А завтра вернусь.
Она подняла свои светлые брови.
– Зачем?
– Посмотреть на тебя.
– А я не картина, – сказала она. – И нечего вам тут разглядывать. Нечего.
– Ну, это я сам уж решу.
Она промолчала.
– Неждана, – сказал он. – Ну, голову я потерял. Что мне делать?
– Найдете! Уйдите отсюда.
– Ты мужа боишься?
Опять промолчала. Потом повернулась, пошла тихо к дому, косынку свою волоча по земле.
Съемочная группа томилась бездельем, ждала режиссера. А он возвращался под вечер, косматый, с горящим лицом и больными глазами. Она его и на порог не пускала.
Утром, перед отъездом, Зверев зашел проститься. Все дома забудется. Хватит. Он знал, что он скажет: желаю вам счастья, случится в Москве быть, я к вашим услугам.
Она развешивала белье на веревки, натянутые между соснами. На фоне молочно-густой синевы и солнца, янтарного, как ее бусы, надутые ветром и свежестью простыни напомнили парусники.
– Я скоро вернусь, – вдруг сказал он с угрозой.
И сам удивился.
Она засмеялась:
– Нет, вы не вернетесь.
Он сделал к ней шаг:
– Я вернусь.
– А зачем?
В глазах потемнело. Схватил ее за руки.
– Пустите, – сказала она.
– Не пущу.
Лицо ее было впервые так близко.
– Поедем в Москву! – зарычал рыжий фавн.
– Зачем мне в Москву?
– Ты мужа так любишь?
Она усмехнулась:
– Совсем не поэтому.
– А почему?
– Какое вам дело?
Он крепко прижал ее руки ко рту.
– Такое, что я не могу без тебя.
Сказал то, что чувствовал.
Когда он через несколько минут, даже и не простившись с нею, вышагивал по вздрагивающим под его ногами сучьям и птица какая-то словно дразнила его в вышине «у-ю-ють!», «у-ю-ють!», Звереву захотелось подойти к любому дереву и изо всей силы удариться лбом в его ствол. Должна же быть боль такой силы, какая поможет ему одолеть вот эту, отвратную, мутную, злую, – не боль, хуже боли: тоску. Он мог бы, наверное, справиться с болью. Ну, что? Поболит и пройдет. Но с этой тоской, непрерывной, сосущей, которая даже ночами, во сне, его изводила, – вот с нею как быть? Сосет и сосет так, что не продохнуть. Он, главное, не понимал, как же это? Все было отлично: квартира, работа… Марина, в конце концов! Канны, медаль… И вдруг все как в пропасть! Ррраз! И пустота. Одни эти бусы на матовой шее. Он лег прямо в траву и принялся думать. Ни внешность ее, ни ее непохожесть на всех остальных, ни ее неприступность такой тоски вызвать в душе не могли. Нет, что-то другое случилось, ужасное. Как будто он вдруг тяжело заболел. Увидел ее и лишился рассудка.
Вернувшись в Москву, Зверев первым делом позвонил Марине. Она прилетела, конечно. Он начал ее раздевать, зацеловывать. Тоска не ушла. А когда через час Марина заснула, – вся влажная, светлая, ресницы в счастливых слезах, – он дал себе волю: увидел Неждану в вишневой косынке. И это движенье, которым она спокойно поправила бусы на шее.
Глава девятая
Бедная Лиза
С первого дня семейной жизни Лиза поняла, что ее мужа привлекают исключительно яркие и особенные женщины. Она же была неброской и несколько даже в себе неуверенной. Но с этим теперь предстояло бороться. То, что он обратил на нее внимание и женился, казалось ей случайностью, которую он, спохватившись, исправит. Тогда она стала играть, как играют актрисы на сцене. Проснувшись всегда очень рано, бежала скорее и красилась. Саша не видел ее без косметики, спал. Открывши глаза, удивлялся: одета, причесана, на каблуках. Не то что другие супруги: в халатах неновых, в замызганных платьицах! Она приглашала гостей, чтобы Саше хотелось домой, заводила знакомства, у них собирались поэты и барды, и их приглашали: чудесная пара. Она не давала ему заскучать. При этом сама одевалась так стильно, как будто работала с Зайцевым, Славой, а может быть, даже с Исайей Мизрахи, живущим в Нью-Йорке. Читала все книги и всю на них критику, потом обсуждала их с мужем. Писала романсы. И пела их вместе с одним колоритным знакомым – монахом, который недавно покинул обитель. Потом оказалось, что певчий послушник бежал правосудия, прятался. Но это потом оказалось, не сразу. Короче, вся жизнь стала сценой, и Лиза затмила собою Ермолову.
Несмотря на это, Саша ей все-таки изменял. Вокруг утешали:
– Терпи, пусть гуляет. Порода такая у них, кобелиная.
Терпеть было больно и невыносимо. А главное, – да объясните же мне! – чего ему нужно, мерзавцу, предателю? Культуру? Да ты мне найди дом культурней! Вон Сартр стоит, вон Камю, вон Цветаева! Идешь в туалет – выбирай и читай! И в консерватории блат, и в Большом! А в спальне устроила все как в журнале. Кровать больше, чем ипподром, на подушках написано красным: «А ну, докажи!» Ведь просто как кровью написано, кровью! Ее, разумеется, Лизиной кровью. Однажды сняла даже дачу в Барвихе. Устроила праздник Ивана Купалы. Костер был до неба. Все выпили, прыгали. Бочком, правда, но хохотали до колик.
А он изменял. И она уставала от этих измен, и сникала, и плакала. Потом поняла: никуда он не денется. Дом – это святыня, жена – это крепость. Почти успокоилась.
Зря успокоилась. Пока он гулял, это были «цветочки», а «ягодки» ждали ее впереди. Не ягодки, ягодищи чернобыльские, клубника размером с огромный арбуз. Та самая Зоя, которую Лиза всегда приглашала, поила-кормила (у Зои был муж, неплохой пианист!), осталась вдовой. Ходит в черном, бледна, и дочка-подросток с тяжелым характером. И Лиза своими руками, сама послала его «успокаивать» Зою. Конечно, без дьявола не обошлось – не Лиза послала, ее подтолкнули. А тот, кто ее подтолкнул, он к тому же ее ослепил, оглушил, не оставил ни капли простого и здравого смысла.
Пошел успокаивать и полюбил. И Лиза в конце концов все поняла. Глаза его стали такими, как будто его лихорадит, он заболевает. Она поняла вопреки его нежности, которой он начал ее окружать, подаркам, которые он ей дарил, всем знакам внимания, в том числе шубе, которую вдруг ей купил на Тверской, хотя она даже не очень просила. Зализывал ей языком лживым раны, на все соглашался. Его лихорадило.
А Лиза металась, не знала, что делать. Сказать ему прямо в лицо или ждать? Сама один раз испугалась себя, когда он пришел – а лето, жара – на белой рубашке был след поцелуя. Помада растаяла, и этот след казался припухшим, как женские губы. Она подошла и рванула рубашку, открыла плечо:
– Целовали тебя? А я укушу прямо в это же место! Посмотрим, что ты запоешь!
И он отскочил. Не то чтобы так уж боялся укуса, но так удивился, что сразу стал белым в такую жару:
– Что с тобой?
– Со мной все в порядке! А что вот с тобой?
Он тут же ушел, хлопнул дверью. Напялил в прихожей какую-то куртку. Она прорыдала часа три подряд. От слез отупела, сидела, икала. В двенадцать вернулся.
– Ну, ты успокоилась?
Она посмотрела затравленно, жалко. Ведь он может просто уйти. Насовсем.
В постели вела себя хуже, чем шлюха. Но он, видно, зол был: простил, но не сразу.
С тех пор так и жили: семья – не семья. А проще сказать, так, как многие семьи. По-прежнему гости у них собирались, по-прежнему их звали в разные гости, по-прежнему ездили летом в Пицунду, а как наступали морозы в Москве, жена надевала дареную шубу.
– Она вам так, Лиза, идет, просто прелесть!
– Еще бы, ведь муж подарил, от души! Ты помнишь, как ты подарил эту шубу?
– Да я тебе шуб этих столько дарил!
– Но это ведь первая, Саша! Ведь первая!
И так прошли годы. Она притерпелась, но внешне. А сердце ее разрывалось. Подруга постарше (не замужем, с сыном!) сказала, что Лизе так долго не выдержать.
Сидели на даче в одном гамаке. Подруга курила, а Лиза молчала.
– Тебе нужна помощь, – сказала подруга.
Белели березы, на небе ни облачка.
– Пойдем к Ибрагиму, – сказала подруга.
– И что он мне сделает?
– Хуже не сделает.
Она понимала, что больше не может. Ночами, когда он лежал с нею рядом, закинув лицо, и оно проступало в прозрачном струящемся свете, в котором заметны головки задумчивых ангелов, – в такие минуты несчастная Лиза боялась того, что с ней происходило. Она становилась все злее и злее. А разве есть в злобе какой-нибудь смысл? Ведь это – еще одна форма страдания. И чем злобы больше, чем гуще она и цветом чернее, сочнее и жарче, тем и безысходней страдание.
Подруга, растившая сына одна, была не брезглива. Ни связями в лифте, ни в зимнем лесу, ни тем, чтобы ночью, в купе, когда мчишься куда-нибудь в Тверь, вдруг отдаться чужому, который случайно с тобой рядом мчится, – ничем перечисленным эта подруга не пренебрегала. Но кто ей судья? Заблудшая женщина! Что будет с сыном, когда он – дай Бог ему – вырастет тоже? Наверное, сразу пойдет по стопам своей неразборчивой матери. Впрочем, он, может быть, и не пойдет по стопам. А может, он станет биологом даже. А может быть, микробиологом. Это, наверное, проще, а платят не хуже. Но как бы там ни было, эта подруга, растившая сына одна, давно знала известного мага, целителя разных душевных и даже телесных болезней. Она и свела его с бедною Лизой.
Ибрагим занимал весьма странное помещение почти что под самою крышей и жил с близким другом, танцором, который вел все их хозяйство, в то время как сам Ибрагим на улице мог находиться лишь ночью. Дневной свет ему почему-то мешал. (Черта, кстати, странная и неприятная.) Сам дом был при этом печально известным, стоял над рекою, глядел ей на дно, и много случилось за этими стенами, когда никого еще – ни Ибрагима, ни друга-танцора, ни Лизы – на свете не существовало, а были другие какие-то люди и трудности. Мало кто обращал внимание, что под самою крышей этого знаменитого дома есть что-то вроде чердачного, но вполне благоустроенного помещения, в котором уже когда всех, кого можно, убили и вывезли снизу, из славных квартир их, устроились новые люди: танцоры, художники и колдуны. Они служат только искусству, их ноздри не чувствуют запаха крови нисколько.
Поднявшись сперва на лифте до самого последнего этажа, увидели обе взволнованные женщины маленькую лестницу, ведущую словно бы прямо на небо. Подруга была здесь своим человеком, поэтому, быстро схвативши за локоть совсем побледневшую Лизу, взлетела наверх по ступенькам, как хищная птица. Открыл им танцор, томный, крошечный, тонкий. Он был в тренировочных черных штанах, босой и без майки. Бросался в глаза педикюр на танцоре, такой спело-красный, как будто по полу рассыпали ягоды. Глаза у танцора казались большими от темно-лилового карандаша, и он улыбался приятно и радостно.
– К тебе, Ибрагим, – произнес он красивым, вполне, впрочем, женским и чистым сопрано.
Окна были завешены шторами с красными и синими разводами, поэтому дневной свет, хоть и стремился проникнуть в эту огромную, с низким потолком, комнату через оставленные кое-где щели, дробился и прыгал, как будто пытаясь спастись от кого-то. Все пространство было завалено большими восточными подушками, на многих светились и камни, и золото, и серебро. Во глубине помещения прямо на полу лежал огромный матрац, застеленный тоже очень красивыми и богатыми восточными покрывалами. Окно было плотно закрыто, но всюду наставленные вентиляторы гоняли туда и сюда теплый воздух. На зеркале, тусклом, большом и овальном, горели пронзительно мелкие лампочки, – так, словно в квартире все время справляют не то Новый год, не то свадьбу. Но, кроме того, поднимался от пола томительный запах восточных курений: везде были вазочки, вазы, кувшинчики, из них-то и шел этот запах.
– Сейчас он придет, подождите.
И танцор прищелкнул слегка двумя хрупкими пальцами.
За пестрыми ширмами, отгораживающими часть комнаты, храпел человек, не открытый для взглядов, слегка бормоча внутри влажного храпа. Но что бормотал, было не разобрать. Прошло минут десять-двенадцать. В конце концов ширмы раздвинулись. Увидев того, кто сейчас ей расскажет, чего ожидать и кого опасаться, несчастная Лиза так и подскочила.
Неподвижное лицо Ибрагима, насаженное на длинную, немного в пупырышках, шею, не выражало ровным счетом ничего и, честно сказать, было словно бы мертвым. Густые и гладкие черные волосы ложились на плечи и их укрывали своими блестящими жесткими прядями. Он тоже был бос, но бескровные пальцы без всякого педикюра казались какими-то слишком уж грязными, будто колдун и по улице тоже гуляет босым, как веселый крестьянский ребенок.
Минуты две Ибрагим, не шевелясь и не произнося ни слова, смотрел Лизе прямо в глаза. Потом велел сесть на большую подушку. Потом аккуратно зажег две свечи, по-прежнему молча и очень серьезно. Потом достал карты, такие же грязные, а может быть, даже грязнее, чем ноги. Движенья его были тихими, ровными.
– Смотрите сюда, – вдруг сказал Ибрагим с развязным и сладким молдавским акцентом. – Вы видите эту червонную даму?
И он указал подбородком на карту, где правда была нарисована дама.
– Я вижу, – сказала испуганно Лиза.
– Она хочет вашего мужа покушать, – еще слаще сказал Ибрагим.
– Как это – покушать? Что значит «покушать»?
– А вот как! – И он сделал «ам!» как делают детям. – Вот так и покушать. Проглотит, и все.
– Нельзя ее как-нибудь… ну, обезвредить… – У Лизы затылок наполнился болью.
Но он замолчал и опять неподвижно смотрел ей в глаза.
– Браслетик на вас, – прошептал он печально. – Вы знаете, кто был хозяин браслетику?
– Да мама моя, от нее мне досталось…

