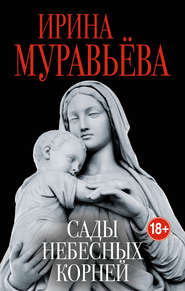По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Барышня
Серия
Год написания книги
2010
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, много работы, я знаю, – кивнул он. – Прекрасная женщина эта княгиня! А Вася почти мне не пишет, волнуюсь всё время.
– Давно ваша жена умерла?
– Перед самым началом войны, на водах.
– Уехала всё-таки? – ахнула Таня. – Она не хотела…
– Это было нашим последним шансом, – быстро ответил Александр Сергеевич. – Ей нужно было принять курс тамошних вод, лечиться… Я сделал, что мог…
Таня почти перестала дышать и со страхом смотрела на него, пытаясь понять, что это она сейчас слышит: ведь это всё ложь? Он лжет ей?
– Что вы так смотрите? – усмехнулся он. – Думаете, я вам неправду говорю?
– Я думаю, да. Вы сами хотели, чтобы она уехала, и там… Только чтобы подальше. Она следила за вами, вы так говорили… Ведь это вы мне говорили?
– Ну, мало ли что я говорил! – Он вздохнул и отвел глаза. – Тогда многое представлялось в неверном свете. Все эти супружеские споры, скандалы, кто прав, кто не прав – всё это, ей-богу, к делу не относится. Тут черт ногу сломит, поверьте… Зачем мы об этом сейчас говорим? Я счастлив тому, что вас встретил.
– Мне в госпиталь, – заторопилась она. – И вы, пожалуйста, не нужно ничего такого… Я обручена, у меня жених ранен, и мне совсем не до этого…
Он весь просиял своей обжигающей знакомой улыбкой.
– У вас жених ранен, а у меня сын на фронте. Мы с вами друзья, разве это не правда? А Нина уже ни при чем. Когда человек умирает, вся его жизнь уходит вместе с ним. Нет человека – и ничего нет. А что с ним и где он – это неведомо.
«Зачем он так говорит?» – подумала она, опять чувствуя страх от его особенного голоса и улыбки.
– Вы, значит, невеста? – Александр Сергеевич перестал улыбаться. – И кто же счастливец?
– Владимир Шатерников, известный артист.
– Ну, как же! «Уход великого старца»? Так он ведь старик или я ошибаюсь?
– Ему двадцать восемь лет, – вспыхнула Таня. – А это всего только навсего грим.
– И что это вас занесло на актера! Они ведь играют не только на сцене, это особая людская порода: не могут они не играть. Я вас от души уверяю, что актер, случись ему, скажем, оказаться где-нибудь в пустыне, где нет никого, кроме верблюдов, – он и там будет играть какую-нибудь роль, ему и зрители не нужны…
– Перестаньте! – попросила Таня. – Вы-то не поехали сражаться! Как же вы говорите такое?
– Да я и не мог бы «сражаться». Куда мне… – Александр Сергеевич иронически приподнял брови. – Простите. Всё это от ревности.
– Какой еще ревности? Прощайте! – Она отвернулась и, не рассчитав, шагнула прямо в снег. В ботинки сразу набился обжигающий холод. – Я очень тороплюсь.
– Куда вы торопитесь, Таня! – Он загородил ей дорогу. – Куда вы всё время бежите и рветесь? Хотите в синематограф? Вы любите фильмы?
– Я, правда, не знаю, – прошептала она, чувствуя, как коченеет нога. – Сейчас не до этого.
– Во сколько вы завтра свободны? – Александр Сергеевич близко наклонился к ней. – Заеду за вами, когда вам удобно.
Третье письмо Владимира Шатерникова
Сегодня весь день лил дождь, но при этом было тепло. Не скажешь, что осень. К вечеру небо расчистилось и переполнилось звездами. Вспомнил, как в детстве я до страсти любил смотреть на звезды, давал им человеческие имена. Не так давно, при отъезде из Питера, стал разбирать фотографии, хотел взять с собою на память штук двадцать, особенно больно было расставаться с теми, где родители. Посмотрел и на себя самого. Вот мне четыре года, вот я младенец в коляске, и няня стоит рядом – гордая, что ее снимают, – вот я гимназист, уши оттопырены, глаза нагловатые, а вот я на съемках «Великого старца». И знаешь, что поразило меня? Ведь это всё – разные люди. Что общего у гимназиста с оттопыренными ушами и человека, который пытается изобразить графа Толстого, горбится перед зеркалом в крестьянской рубахе и двигает только что наклеенными бровями? Что общего между малышом в матроске, сидящим, как кукла, на руках у матери, и тем юнцом, которым я был еще недавно, когда собирался на фронт? В голову мне пришла странная, может быть, но до удивления ясная мысль: а не проще ли предположить, что всякий из нас проживает здесь, на земле, не одну, как нам кажется, а несколько жизней? Не знаю, смогу ли объяснить тебе, насколько эта мысль вдруг перевернула меня всего. Ведь я, который был малышом на материнских руках, давно исчез, и только память роднит меня, сегодняшнего, с ним, так же, как когда-нибудь исчезну тот «я», который сейчас пишет тебе это письмо, и появится кто-то другой, которого я сейчас не знаю и даже не могу догадаться, как он будет выглядеть. А что же такое тогда смерть? Что происходит с этим самым «последним» человеком, которым станет каждый из нас? Он уйдет и закроет дверь за всеми – малышом, подростком, стариком и, наконец, умирающим. И тут же я подумал: разве это верно – сказать «закроет»? Разве не наоборот? Со смертью этого последнего «я», может быть, дверь-то и открывается, наконец, по-настоящему?
Видишь, каким философом становлюсь я от нашего госпитального безделья. Скорее всего, это происходит потому, что и там, на фронте, и здесь, в больнице, смерть слишком уж близко подступила ко мне, она подошла вплотную, и только надежда, что Бог не захочет разлучить меня с тобою так скоро, спасает от страха, неизбежного сейчас. Ведь здесь над каждым из нас, как ястреб над цыпленком, висит опасность, что рана в любой момент может оказаться смертельной, начнется нагноение, подымется жар, пойдет заражение и т. д. Иногда, когда я смотрю на особенно тяжелых больных, мне начинает казаться, что они уже и не люди, а просто придатки к своим кровоточащим, раздробленным конечностям. Каждый из них, засыпая вечером, боится, что завтра утром, когда доктор на осмотре откинет одеяло и принюхается к зловонию, которое сочится из-под бинтов, отдаст приказание на операцию, и тогда раненого положат на стол, натянут на лицо удушливую маску и, превратив его в онемевшую тушу, отрежут эту загнившую ногу или заново раздробят череп.
Прости, что пишу тебе всё это. Но я ведь знаю, какая ты, я не ошибаюсь в тебе. Даже в твоей очаровательной хрупкости чувствуется присутствие той душевной силы, которая поразила меня в первую минуту, когда я только увидел тебя. Если бы ты знала, как я всю тебя помню: твои глаза, когда ты сказала «женитесь на мне, и я буду там, с вами», и то, как ты вся побелела, узнав, что я ухожу на фронт, и как ты крепко, до боли, обняла меня, когда мы прощались. Ты лучшая на земле, самая сильная, самая прекрасная. Я не должен умереть, так я хочу снова обнять тебя, почувствовать твои губы.
* * *
Василий Веденяпин, сын доктора Александра Сергеевича Веденяпина, уходя на фронт, стремился не только к защите Отечества, но и к тому, чтобы как можно быстрее забыть свой последний год в родительском доме. Известие о смерти матери пришло через три дня после объявления войны, и если бы не война, это известие должно было убить его, потому что страшная вина перед матерью, которую он знал за собой, не могла быть исправлена теперь, раз матери нет больше. Отец много раз объяснял ему, что мать заболела не только болезнью легких, он объяснял, что рассудок ее пострадал в результате этого легочного заболевания, мать начала совершать одну ошибку за другой, и даже любовь ее к сыну дошла до полного абсурда. Василий старался прислушаться к тому, что говорил ему отец, но внутри себя не соглашался с ним. Теперь, когда матери не стало, она всё чаще и чаще приходила ему на память не той, какой была в последний год, когда, если верить отцу, рассудок ее был уже болен, а той светловолосой и голубоглазой мамой, которая учила его плавать в Коктебеле, и волны накатывали на них обоих, накрывали с головой, и мамино смеющееся и испуганное лицо вдруг крепко прижималось к его лицу под водой, а ее длинные волосы расползались во все стороны, как водоросли, пока они вместе, отхлебываясь и хохоча, выныривали на поверхность. Или он вдруг вспоминал, как она, поручив его няне, когда у него была высокая температура во время очередной болезни, уезжала куда-то на час с небольшим и возвращалась, запорошенная снегом, в большом заиндевевшем капоре, входила к нему в комнату с красивой коробкой, перевязанной синими или розовыми блестящими лентами, и лукавая, радостная от того волнения и счастья, которое сразу же освещало и его красное от жара лицо, вынимала из этой коробки чудесный подарок: клоуна с раскрашенными фарфоровыми щеками, у которого руки и ноги приводились в движение с помощью особого устройства, вставленного внутрь его опилочного живота, или красивый поезд с закутанным в белый тулуп стрелочником.
Еще и раньше Василий замечал, что стоило им – ему, маме и отцу – остаться втроем, как родители тут же начинали ссориться, и он неизменно оказывался причиной их ссор и скандалов. Он редко видел отца, который постоянно пропадал на работе, и поэтому, когда тот ненадолго оказывался дома, хотелось приласкаться к нему, взобраться на колени и изо всех сил надышаться запахом крепкого, вкусного, щекочущего ноздри одеколона, идущего от впалых отцовских щек. У мамы же, напротив, при виде отца почти всегда изменялось лицо: оно становилось напряженным и немного капризным, как будто мама не хотела, чтобы отец хоть на секунду забыл о том, что ей плохо с ним и даже ее улыбка есть не что иное, как результат тяжелой внутренней борьбы. Иногда Василий пытался понять, что же на самом деле происходит внутри родительской жизни, но каждый раз заходил в тупик: он любил отца – он точно знал, что любил его, – но маму он не просто любил, он обожал ее почти до страха, и когда она раз в месяц объясняла, что больна, и по несколько дней не выходила из своей комнаты, он чувствовал такую тоску, от которой ничто не спасало, даже отец с его вкусно пахнущими впалыми щеками.
После того, как всё это началось: мамина слежка за ними обоими, ее крики, исступленные требования и то, что отец в конце концов снял ей квартиру, и наступила зима, за время которой Василий видел маму всего два-три раза, пока она не уехала за границу лечиться, – после всего этого объявление войны, на три дня опередившее телеграмму о маминой смерти, было подобно тому, как если бы во всем мире вдруг погас свет. Всё разом потеряло смысл. Незачем стало учиться, например, или заботиться о будущем. Зато теперь он, по крайней мере, знал, что ему делать. На похороны они с отцом не поехали, отец выслал деньги, и маму похоронила ее кузина, жившая на юге Франции.
– Давно ваша жена умерла?
– Перед самым началом войны, на водах.
– Уехала всё-таки? – ахнула Таня. – Она не хотела…
– Это было нашим последним шансом, – быстро ответил Александр Сергеевич. – Ей нужно было принять курс тамошних вод, лечиться… Я сделал, что мог…
Таня почти перестала дышать и со страхом смотрела на него, пытаясь понять, что это она сейчас слышит: ведь это всё ложь? Он лжет ей?
– Что вы так смотрите? – усмехнулся он. – Думаете, я вам неправду говорю?
– Я думаю, да. Вы сами хотели, чтобы она уехала, и там… Только чтобы подальше. Она следила за вами, вы так говорили… Ведь это вы мне говорили?
– Ну, мало ли что я говорил! – Он вздохнул и отвел глаза. – Тогда многое представлялось в неверном свете. Все эти супружеские споры, скандалы, кто прав, кто не прав – всё это, ей-богу, к делу не относится. Тут черт ногу сломит, поверьте… Зачем мы об этом сейчас говорим? Я счастлив тому, что вас встретил.
– Мне в госпиталь, – заторопилась она. – И вы, пожалуйста, не нужно ничего такого… Я обручена, у меня жених ранен, и мне совсем не до этого…
Он весь просиял своей обжигающей знакомой улыбкой.
– У вас жених ранен, а у меня сын на фронте. Мы с вами друзья, разве это не правда? А Нина уже ни при чем. Когда человек умирает, вся его жизнь уходит вместе с ним. Нет человека – и ничего нет. А что с ним и где он – это неведомо.
«Зачем он так говорит?» – подумала она, опять чувствуя страх от его особенного голоса и улыбки.
– Вы, значит, невеста? – Александр Сергеевич перестал улыбаться. – И кто же счастливец?
– Владимир Шатерников, известный артист.
– Ну, как же! «Уход великого старца»? Так он ведь старик или я ошибаюсь?
– Ему двадцать восемь лет, – вспыхнула Таня. – А это всего только навсего грим.
– И что это вас занесло на актера! Они ведь играют не только на сцене, это особая людская порода: не могут они не играть. Я вас от души уверяю, что актер, случись ему, скажем, оказаться где-нибудь в пустыне, где нет никого, кроме верблюдов, – он и там будет играть какую-нибудь роль, ему и зрители не нужны…
– Перестаньте! – попросила Таня. – Вы-то не поехали сражаться! Как же вы говорите такое?
– Да я и не мог бы «сражаться». Куда мне… – Александр Сергеевич иронически приподнял брови. – Простите. Всё это от ревности.
– Какой еще ревности? Прощайте! – Она отвернулась и, не рассчитав, шагнула прямо в снег. В ботинки сразу набился обжигающий холод. – Я очень тороплюсь.
– Куда вы торопитесь, Таня! – Он загородил ей дорогу. – Куда вы всё время бежите и рветесь? Хотите в синематограф? Вы любите фильмы?
– Я, правда, не знаю, – прошептала она, чувствуя, как коченеет нога. – Сейчас не до этого.
– Во сколько вы завтра свободны? – Александр Сергеевич близко наклонился к ней. – Заеду за вами, когда вам удобно.
Третье письмо Владимира Шатерникова
Сегодня весь день лил дождь, но при этом было тепло. Не скажешь, что осень. К вечеру небо расчистилось и переполнилось звездами. Вспомнил, как в детстве я до страсти любил смотреть на звезды, давал им человеческие имена. Не так давно, при отъезде из Питера, стал разбирать фотографии, хотел взять с собою на память штук двадцать, особенно больно было расставаться с теми, где родители. Посмотрел и на себя самого. Вот мне четыре года, вот я младенец в коляске, и няня стоит рядом – гордая, что ее снимают, – вот я гимназист, уши оттопырены, глаза нагловатые, а вот я на съемках «Великого старца». И знаешь, что поразило меня? Ведь это всё – разные люди. Что общего у гимназиста с оттопыренными ушами и человека, который пытается изобразить графа Толстого, горбится перед зеркалом в крестьянской рубахе и двигает только что наклеенными бровями? Что общего между малышом в матроске, сидящим, как кукла, на руках у матери, и тем юнцом, которым я был еще недавно, когда собирался на фронт? В голову мне пришла странная, может быть, но до удивления ясная мысль: а не проще ли предположить, что всякий из нас проживает здесь, на земле, не одну, как нам кажется, а несколько жизней? Не знаю, смогу ли объяснить тебе, насколько эта мысль вдруг перевернула меня всего. Ведь я, который был малышом на материнских руках, давно исчез, и только память роднит меня, сегодняшнего, с ним, так же, как когда-нибудь исчезну тот «я», который сейчас пишет тебе это письмо, и появится кто-то другой, которого я сейчас не знаю и даже не могу догадаться, как он будет выглядеть. А что же такое тогда смерть? Что происходит с этим самым «последним» человеком, которым станет каждый из нас? Он уйдет и закроет дверь за всеми – малышом, подростком, стариком и, наконец, умирающим. И тут же я подумал: разве это верно – сказать «закроет»? Разве не наоборот? Со смертью этого последнего «я», может быть, дверь-то и открывается, наконец, по-настоящему?
Видишь, каким философом становлюсь я от нашего госпитального безделья. Скорее всего, это происходит потому, что и там, на фронте, и здесь, в больнице, смерть слишком уж близко подступила ко мне, она подошла вплотную, и только надежда, что Бог не захочет разлучить меня с тобою так скоро, спасает от страха, неизбежного сейчас. Ведь здесь над каждым из нас, как ястреб над цыпленком, висит опасность, что рана в любой момент может оказаться смертельной, начнется нагноение, подымется жар, пойдет заражение и т. д. Иногда, когда я смотрю на особенно тяжелых больных, мне начинает казаться, что они уже и не люди, а просто придатки к своим кровоточащим, раздробленным конечностям. Каждый из них, засыпая вечером, боится, что завтра утром, когда доктор на осмотре откинет одеяло и принюхается к зловонию, которое сочится из-под бинтов, отдаст приказание на операцию, и тогда раненого положат на стол, натянут на лицо удушливую маску и, превратив его в онемевшую тушу, отрежут эту загнившую ногу или заново раздробят череп.
Прости, что пишу тебе всё это. Но я ведь знаю, какая ты, я не ошибаюсь в тебе. Даже в твоей очаровательной хрупкости чувствуется присутствие той душевной силы, которая поразила меня в первую минуту, когда я только увидел тебя. Если бы ты знала, как я всю тебя помню: твои глаза, когда ты сказала «женитесь на мне, и я буду там, с вами», и то, как ты вся побелела, узнав, что я ухожу на фронт, и как ты крепко, до боли, обняла меня, когда мы прощались. Ты лучшая на земле, самая сильная, самая прекрасная. Я не должен умереть, так я хочу снова обнять тебя, почувствовать твои губы.
* * *
Василий Веденяпин, сын доктора Александра Сергеевича Веденяпина, уходя на фронт, стремился не только к защите Отечества, но и к тому, чтобы как можно быстрее забыть свой последний год в родительском доме. Известие о смерти матери пришло через три дня после объявления войны, и если бы не война, это известие должно было убить его, потому что страшная вина перед матерью, которую он знал за собой, не могла быть исправлена теперь, раз матери нет больше. Отец много раз объяснял ему, что мать заболела не только болезнью легких, он объяснял, что рассудок ее пострадал в результате этого легочного заболевания, мать начала совершать одну ошибку за другой, и даже любовь ее к сыну дошла до полного абсурда. Василий старался прислушаться к тому, что говорил ему отец, но внутри себя не соглашался с ним. Теперь, когда матери не стало, она всё чаще и чаще приходила ему на память не той, какой была в последний год, когда, если верить отцу, рассудок ее был уже болен, а той светловолосой и голубоглазой мамой, которая учила его плавать в Коктебеле, и волны накатывали на них обоих, накрывали с головой, и мамино смеющееся и испуганное лицо вдруг крепко прижималось к его лицу под водой, а ее длинные волосы расползались во все стороны, как водоросли, пока они вместе, отхлебываясь и хохоча, выныривали на поверхность. Или он вдруг вспоминал, как она, поручив его няне, когда у него была высокая температура во время очередной болезни, уезжала куда-то на час с небольшим и возвращалась, запорошенная снегом, в большом заиндевевшем капоре, входила к нему в комнату с красивой коробкой, перевязанной синими или розовыми блестящими лентами, и лукавая, радостная от того волнения и счастья, которое сразу же освещало и его красное от жара лицо, вынимала из этой коробки чудесный подарок: клоуна с раскрашенными фарфоровыми щеками, у которого руки и ноги приводились в движение с помощью особого устройства, вставленного внутрь его опилочного живота, или красивый поезд с закутанным в белый тулуп стрелочником.
Еще и раньше Василий замечал, что стоило им – ему, маме и отцу – остаться втроем, как родители тут же начинали ссориться, и он неизменно оказывался причиной их ссор и скандалов. Он редко видел отца, который постоянно пропадал на работе, и поэтому, когда тот ненадолго оказывался дома, хотелось приласкаться к нему, взобраться на колени и изо всех сил надышаться запахом крепкого, вкусного, щекочущего ноздри одеколона, идущего от впалых отцовских щек. У мамы же, напротив, при виде отца почти всегда изменялось лицо: оно становилось напряженным и немного капризным, как будто мама не хотела, чтобы отец хоть на секунду забыл о том, что ей плохо с ним и даже ее улыбка есть не что иное, как результат тяжелой внутренней борьбы. Иногда Василий пытался понять, что же на самом деле происходит внутри родительской жизни, но каждый раз заходил в тупик: он любил отца – он точно знал, что любил его, – но маму он не просто любил, он обожал ее почти до страха, и когда она раз в месяц объясняла, что больна, и по несколько дней не выходила из своей комнаты, он чувствовал такую тоску, от которой ничто не спасало, даже отец с его вкусно пахнущими впалыми щеками.
После того, как всё это началось: мамина слежка за ними обоими, ее крики, исступленные требования и то, что отец в конце концов снял ей квартиру, и наступила зима, за время которой Василий видел маму всего два-три раза, пока она не уехала за границу лечиться, – после всего этого объявление войны, на три дня опередившее телеграмму о маминой смерти, было подобно тому, как если бы во всем мире вдруг погас свет. Всё разом потеряло смысл. Незачем стало учиться, например, или заботиться о будущем. Зато теперь он, по крайней мере, знал, что ему делать. На похороны они с отцом не поехали, отец выслал деньги, и маму похоронила ее кузина, жившая на юге Франции.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Другие электронные книги автора Ирина Лазаревна Муравьева
Сады небесных корней




 4.67
4.67
Поклон тебе, Шура




 3.67
3.67