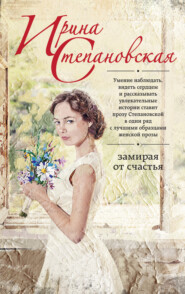По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
На скамейке возле Нотр-Дам
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Трансферист, прислушивающийся к ее словам, заметил:
– Это очень удобно, мадам, экономия электричества. Но, наверное, нужно иметь плотные шторы, чтобы свет не мешал ночью?
– Мне не мешает. Я хотела бы поехать с вами и подождать моих девочек в гостинице.
– Конечно, мадам! – Трансферист оглядел нас с Леной, как будто желал убедиться, что мы с ней достойны такой чести, и повел всю группу в автобус. Он хотел посадить Мари на первое сиденье поближе к себе, но она со скромной элегантностью отвергла его приглашение и прошла в самый хвост автобуса. Как раз туда, куда хотела бы сесть я.
– Садитесь с Леной. Вам, наверное, есть о чем поговорить, – и я с невежливой настойчивостью отодвинула Мари на ряд вперед. Она насмешливо взглянула на меня, но ничего не сказала, действительно села с Леной, а я устроилась у окна в одиночестве. Там, где хотела, в последнем ряду, и где окна наполовину были задернуты занавесками. И, когда автобус тронулся, я вдруг незримо почувствовала того, кто раньше сидел рядом со мной.
* * *
В тот ранний вечер, в который в квартире Мари раздался телефонный звонок из Москвы, она оказалась дома совершенно случайно – вот так оказываются наказуемы слишком ранние уходы с работы. Но Мари как раз не была халтурщицей и лентяйкой. Опять-таки случайно в тот вечер вырубился Интернет в ее небольшой конторе, и месье Дюпон, которому она верно служила уже лет семь и с которым вместе поднимала его фирмочку, оптом закупающую и доставляющую разнообразные сувениры во всевозможные парижские ларьки, отпустил ее домой. Мари была одновременно и секретаршей, и логистиком, и специалистом по рекламе, но зарплату получала только одну. Мари теперь сносно говорила еще на трех языках, кроме родного, так что Дюпону при необходимости она заменяла еще и переводчицу. Поэтому он и согласился отпустить ее пораньше. Но, несмотря на загруженность, Мари вовсе не жаловалась на свою жизнь. Платили ей, даже учитывая одну зарплату, неплохо, мужа у нее уже давно не было, детей тоже… Однако тем приятней обещал быть для Мари свободный вечер. Впрочем, Мари не считала себя одинокой. У нее была Лулу – маленькая беленькая собачка – лохматая и не особенно породистая, зато преданная хозяйке всем своим собачьим сердцем. Лулу было уже порядочно лет – никто не знал сколько, потому что она перешла к Мари по наследству – вместе с квартирой. Хозяева продавали квартиру с условием, что новая хозяйка возьмет их щенка, сами они куда-то уезжали. И когда Мари пришла за ключами, она увидела Лулу, вжавшуюся в угол возле входной двери. Казалось, собачка поняла, что она останется, когда другие уедут. Мари стало ее жаль. Она взяла ее на руки и стала говорить с ней по-русски. Собачка поняла слова утешения. Они стали неразлучны. Вернее, Лулу, будто понимая, что хозяйке необходимо работать, легко переносила одиночество в квартире по будним дням, но в воскресенье… О, воскресенье принадлежало безраздельно ей и Мари. В воскресенье Лулу категорически возражала, если Мари куда-то уходила без нее. Мари иногда даже казалось, что в ее отсутствие Лулу тщательно изучает календарь – так безошибочно она выделяла именно воскресенье из целой недели рабочих дней. Воскресенье было праздником для Лулу. В воскресенье они поздно вставали, валяясь вдвоем в постели сколько хотели. Потом шли пить кофе на крышу. Да, да. Из квартиры Мари, как и из некоторых других квартир этого дома, был выход на крышу. Крыша была поделена на небольшие отсеки перегородками, вроде тех, которыми у нас перегораживают лоджии в многоквартирных домах. Кстати приобретение этой квартиры Мари считала своим основным жизненным успехом. Иногда Мари задумывалась, чем еще она могла бы похвастаться в жизни? И как-то получалось, что, в общем, ничем. Ее внезапное и неожиданное замужество, казавшееся дома волшебным, быстро окончилось счастливым разводом без всяких сожалений. Уже через несколько месяцев совместного проживания муж произнес весьма обидную для ее слуха фразу: «Какие-то вы, русские, странные – не понимаете обычных вещей». И поскольку тут же оказалось, что своей молодой русской жене он предпочитает старую французскую любовницу, Мари с грустью констатировала, что она, наверное, действительно чего-то не понимает в их отношениях. И поскольку у мужа на поверку не оказалось ни денег, ни какого-то более-менее прочного положения, и это он, наоборот, рассчитывал, что Мари сразу же, чуть ли не с первых дней ее пребывания в новой стране начнет искать работу, что в принципе было невозможно, разве что как сразу пойти в уборщицы, Мари, может быть, даже несколько прагматично рассудила, что, по-видимому, ей лучше сразу расстаться с ним, не дожидаясь появления детей, и отправиться самой в свободное плавание. Лучшей доли – в смысле нового мужчину – Мари искать не хотела, к тому же ей было просто некогда. Переменив несколько работ, она наконец нашла Дюпона, взяла кредит в банке и купила вот эту свою крошечную студию с выходом на крышу. Сейчас кредит был практически уже выплачен, но Мари не хотела брать новый. Ей нравилась ее квартирка. Нравилась она и Лулу. И к сорока годам Мари как-то успокоилась. Решила, что будет жить спокойно, свободно, делать, что хочет, лишь бы была вместе с ней Лулу. О возрасте Лулу Мари предпочитала не думать.
Вот так они и жили возле самой Эйфелевой башни в районе современной застройки, очень напоминающей московские шестнадцатиэтажки, неподалеку от площади Трокадеро. Конечно, это не Пасси и не авеню Бурдонне, на которой звон колокола церкви Дома инвалидов сливался весной с гудением шмелей. В ней кроме так называемого холла площадью семнадцать метров был еще крохотный открытый кухонный отсек и ванная комната с настоящей ванной. В ванной стояла газовая горелка, а в кухне не было большой плиты – она не помещалась, а только маленькая плиточка. По московским меркам, квартирка Мари была даже меньше, чем хрущевка, но Мари и Лулу были совершенно довольны своим положением. Мари очень нравилось жить на самом верху, на шестнадцатом этаже. На крыше, на крошечном участке бетона, Мари разместила кадушку с рододендроном, в апреле бешено покрывающимся махровыми желтыми соцветиями. Вдоль перил у нее располагались горшки с вечно зеленым плющом и геранью, и, когда герань отцветала, плющ живописно оплетал стену и решетку балкона, как в средневековых замках. Иногда в веточках плюща запутывались какие-то насекомые, и тогда Лулу с гавканьем бросалась на них. Когда было солнце, Мари выносила на крышу складное кресло и загорала. Лулу грелась возле нее на специальном коврике, а в жару пряталась в тень балконной решетки. Когда Мари пила лимонад, Лулу просила сливки, которые Мари покупала специально для нее. В дождливую же погоду по воскресеньям они обе любили где-нибудь пообедать. Для этого они ехали на автобусе до вокзала Монпарнас или на такси в район площади Одеон или Люксембургского сада. Мари тогда смотрела на дождь за окном, на идущих мимо нее прохожих. Она заказывала себе утку, выпивала бокал красного вина и чашку кофе. Лулу утиное мясо не любила, поэтому довольствовалась собачьим паштетом, припасенным для нее специально. Мари иногда курила, а Лулу, обожавшая запах тонких сигарет, лежала у нее на коленях, согреваясь от газовой горелки, и согревала своим теплом Мари.
Мари не любила вспоминать Москву. Что там делается сейчас, она не очень представляла. Родителям она, конечно, звонила. И раз или два они даже приезжали к ней в гости, но люди они были не очень привыкшие разъезжать по заграницам (как и Машина мама), поэтому внутри семейного круга все считали Машу отщепенкой. В те дурные годы, в конце восьмидесятых, когда наивные люди ходили по улицам с приемниками в руках, чтобы слушать передачи с очередных партийных съездов, Маша была ребенком. На ее долю хватило и очередей, и неразберихи в умах, и темноты на улицах, и красных пиджаков быстро обогащающихся нуворишей. Приехать в Москву ее не тянуло, несмотря ни на какие завлекательные рассказы. Два раза в год в отпуск Мари ездила к морю – на Лазурный Берег или на Майорку. Номинально она, конечно, была в курсе, кто теперь у нас президент, но как зовут премьер-министра или какого другого руководителя – понятия не имела, да ее это и не интересовало. Она жила делами своей фирмы и своей кудлатой Лулу. Впрочем, если собачий возраст можно бы было пересчитать на человеческий, то оказывалось, что Лулу была много старше Мари. Кстати, это было заметно и по ее нраву: она еще меньше, чем хозяйка, заглядывалась на кобелей, а если хвостатый кавалер и привлекал чем-нибудь ее внимание, то дело, как правило, ограничивалось вежливым обнюхиванием. Таким же манером и Мари вежливо улыбалась мужчинам, но в жизнь свою никого больше не впускала. После мужа и еще до появления у Мари квартиры и Лулу было несколько любителей русской экзотики, но все романы с французами кончались для Мари неудачно. Она не отказывалась от знакомств, но, в конце концов поняв, что русский и французский характеры совмещаются плохо, решила не кидаться на первых попавшихся знакомых. Русские же эмигранты почему-то вообще Мари не прельщали. Да и по совести говоря, кого-то, действительно заслуживающего внимания, чтобы впустить в свою жизнь, у Мари так и не оказалось. И будучи от природы не очень темпераментной, она решила не тратить нервы, по принципу – от добра добра не ищут. Вот при каких обстоятельствах свалился на Мари звонок из Москвы. Маша поговорила с Лениной мамой, пожала плечами в недоумении и стала листать календарь, выясняя, какой это будет день недели. В рабочий день Мари поехать просто бы не смогла, но наш приезд пришелся на воскресенье. В принципе, Ленина судьба ее не очень интересовала, но Мари вдруг вспомнила, какой беспомощной и наивной сама в первый раз явилась во Францию, и решила ехать в аэропорт. Единственная тревога у нее была о Лулу. Будет неудобно, если она не пригласит Лену в гости. Лулу же ревновала Мари ужасно.
– Не волнуйся! Я еду встречать свою племянницу. Она тебе понравится, – сказала Мари по-русски, закрывая Лулу в квартире. Та ответила из-за двери отчаянным визгом. Лулу беспокоило, позволят ли ей в присутствии гостей спать, как она привыкла, на постели с хозяйкой.
– Все будет хорошо, – сказала Мари и направилась к лифту. Лулу услышала звук асансора и демонстративно ушла под диван. Вот в этот самый день Лена и за компанию с ней я в буквальном смысле свалились с неба на головы Мари и ее собачки.
* * *
Автобус двигался быстро. Я не могла понять, когда закончился пригород и начался город, да это было мне и неважно. Я тупо смотрела в окно и боялась пошевелить рукой. Той рукой, которая была обращена к пустому сиденью. Это было бы ужасно – ошутить рядом с собой пустоту, когда память услужливо подсовывает тебе ощущение прошлого. Поиски утраченного времени полное фуфло по сравнению с тем, что я ощущала тогда во время этой поездки в автобусе. Рядом со мной будто ехало привидение – вроде нет никого, а я чувствовала дыхание и тепло рядом с собой. Я боялась повернуться и как раз поэтому смотрела в окно. О чем я думала? Об обыденном. О том, о чем думала в последнее время почти постоянно. Зачем я живу? Пить, есть, спать, прекрасно сознавая, что твое существование никому не нужно, не хочется. Не жить – страшно. Вот и получается, что привязывает меня к жизни только одно – страх не жить. Я знаю, что некоторые думают, что я просто бешусь с жиру. Я живу в большом городе, у меня есть комната в родительской квартире, есть отопление и свет, я не голодаю и хожу хоть в дешевых, но в незаштопанных колготках (для моей матери, например, незаштопанные колготки, которые надеваешь под брюки, – символ приличного благосостояния). Я также знаю, что многие вполне резонно могут сказать мне, что я ничего такого не сделала и не заслужила, чтобы мне быть по жизни богатой и счастливой, а другие люди, стартовые условия которых были гораздо хуже, чем у меня, добились всего сами, и поэтому я не имею права жаловаться. Но ведь я жалуюсь только на то, что со мной нет ЕГО, с которым я хотела бы прожить жизнь. Неважно – в бедности или в богатстве, скорее в тревогах, чем в радости, мне это все неважно. Я хочу его ощущать рядом. Ощущать в себе, знать, что он здесь, среди живущих, и я всегда смогу до него добраться – на самолете ли, на пароходе, на космическом ли корабле…
И поэтому все мысли о том, что на земле безуспешно борются за жизнь инвалиды, смертельно больные, бедные, в смысле, нищие люди, не спасает. Знание того, что люди в буквальном смысле умирают от голода, но хотят при этом жить и надеются на лучшее, не имеют для меня никакой ценности. Он умер – тот, кого я любила. Вернуть его невозможно. Все, что я ощущаю сейчас как его присутствие, – иллюзия, болезнь моего ума, не более того. Это ужасно. Все, что у меня есть, – это воспоминания.
Я закрыла глаза, хотя начались уже крыши. Высокие парижские крыши с изогнутой кровлей, башенками, решетками, флюгерами и окнами, отражающими солнце. Да, сегодня было солнце, оно согревало мне лицо через стекло автобусного окна, а тогда шел дождь. Я это ясно вспомнила, хотя час назад совершенно не помнила, какая была погода в тот наш приезд.
Я была словно огромная неуклюжая черепаха, вяло шевелящая лапами в море воспоминаний. Пласты воды – то теплые, то прохладные, а иногда ледяные – накатывали, омывая мое черпашье тело – я была рада всем этим пластам. Мне даже вдруг вспомнилась школа и моя училка по французскому – вот уж кого я никогда раньше не вспоминала. Досадным айсбергом проплыли ссоры с родителями, веселой мультипликашкой – университет с его сокурсниками и друзьями. Картинки прошлой жизни извлеклись из памяти сами, так иногда бывает во сне. И когда просыпаешься, не можешь сразу понять – правда это когда-то было или просто приснилось.
Да, в тот наш приезд в Париже шел дождь. Человечек, что нас встречал, довез нас на автобусе до какого-то места. Мы вышли. Мой друг и он о чем-то поговорили. Я стояла в стороне и озиралась по сторонам – все не могла поверить, что я в этом городе. Потом они договорились, и тот человек поймал нам такси. Сказал водителю адрес гостиницы и дал деньги. Я сейчас отчетливо это вспомнила. Даже вспомнила, что на водителе была удивительная шляпа – это был чернокожий парижанин в желтой соломенной шляпе.
Да, они тогда готовили выставку, посвященную войне, что-то связанное с французскими летчиками. Он мог бы готовить выставку о садомазо или о русской кухне – мне было бы все равно. Я была с НИМ – и этого мне совершенно хватало для счастья.
Мы поехали в такси. Я была ошеломлена. Мне было захватывающе интересно. Я себя чувствовала кем-то вроде подруги Джеймса Бонда, которая всегда и во всем помогает своему герою. Я помню, что я сидела на заднем сиденье, прижавшись к боку моего спутника, и капли дождя, промочившего нас, пока мы стояли, холодили мне шею мокрым воротником плаща.
Гостиница нам была забронирована. «Скажи шоферу, – велел мне мой спутник, – что нам нужно в «Королевскую оперу», и спроси, далеко ли это от центра». Я перевела.
– Это в районе Больших бульваров, – ответил шофер, повернув ко мне свое широкоскулое лицо. Шляпа его при этом сдвинулась на затылок. – На улице Мазагра, мадам.
Я чуть не выскочила из машины, чтобы расцеловать этого забавного человека.
– Ты слышал? Ты слышал? – тормошила я своего спутника. – Шофер подумал, что я твоя жена! Он назвал меня «мадам»!
ОН отодвинулся немного и взглянул на меня иронически:
– Ну почему все женщины так хотят замуж? Я лично не вижу в замужестве ничего хорошего. При слове «замуж», Танька, ты дуреешь.
Мне стало стыдно, как будто я сказала что-то совершенно неприличное. Я потупилась и стала сама себя чувствовать мокрым воробьем. Ему, видимо, стало меня жалко, поэтому он снова придвинулся и приобнял меня:
– А не приходит тебе в твою голову, дурочка, что он назвал тебя «мадам», потому что ты с дороги выглядишь на двадцать лет старше, чем есть на самом деле? – ОН обожал дразнить меня, мой друг, и наблюдать за моей реакцией. Естественно, что я тут же схватилась за пудреницу. ОН расхохотался. Он так и думал, что я это сделаю. Я с ним не мыслила самостоятельно, я жила по шаблону.
Однако этот шаблон появлялся во мне, только когда я была с НИМ. Любого другого человека я могла бы искалечить за такие слова. Но мой спутник был не «любой другой». В панике я стала рассматривать свое лицо. У меня был комплекс – из-за нежной кожи у меня рано появились под глазами морщинки. Есть ли они у меня сейчас – не знаю. Наверное, есть, но они меня не волнуют. Впрочем, я и в зеркало теперь практически не смотрюсь. Но тогда я не знала, как мне поступить – то ли убрать пудреницу, то ли нарочно продолжать в нее смотреться.
– Приехали, мадам-месье! – Тогда водитель выручил меня этими словами. Он вопросительно смотрел на нас из-за своей загородки, отделявшей его от салона. Я делано помахала ему.
– Мадам очень хорошо говорит по-французски. – Он даже вылез и открыл передо мной дверцу. И я снова готова была его расцеловать.
– Он похвалил меня! – я похвасталась специально.
Но мой друг опять посмотрел на меня так, что мне снова должно было бы стать стыдно. Совсем с ума сошла – принимать за чистую монету похвалу какого-то негра, к тому же таксиста! Однако теперь я не поддалась ему и поперлась в отель.
– Танька, бери чемодан! – Таксист составил наши вещи у порога. Я обернулась. Мой друг стоял и смотрел на меня, на вывеску отеля, на, откровенно говоря, не самую красивую парижскую улочку с такой красивой, открытой и даже ласковой улыбкой, что я поняла – он ощущает то же, что и я – восторг и удивление. Какая же я глупая, что приставала к нему со своими комплексами! Я тут же схватила свой чемодан, он приобнял меня свободной рукой, и мы вместе вошли в отель – как мне хотелось бы думать, дружной супружеской парой.
Я вдруг опомнилась. Наш туристический автобус чуть резче затормозил у перекрестка. Я огляделась по сторонам, будто спала и вдруг проснулась. Я видела чудесный сон. Что-то холодило мне руку. Я посмотрела. Моя старая пудреница, неизвестно с какого времени завалявшаяся на дне кармашка моей дорожной сумки, была сейчас у меня в руке. Я машинально открыла ее и посмотрелась. На меня смотрело ничего не выражающее черепашье лицо с мутными серыми глазами. Я защелкнула крышку, швырнула пудреницу назад и вдруг заплакала. Беззвучно и горько. Плечи мои даже не согрогнулись, и я не издала ни единого звука. Просто слезы в несколько ручьев текли по щекам, и я не могла и не хотела пошевелиться, чтобы их остановить. Я даже не удосужилаь вытащить платок, чтобы их вытереть.
Наш автобус рванулся со светофора и вдруг круто завернул на Большие бульвары. Я вдруг узнала здание Оперы, зады его с крутыми лесенками оказались справа от моего окна. Сердце у меня запрыгало так, будто в моей груди метались сто испуганных молний: все то, что давно было похоронено в моей памяти, запрятано в темные тайники, закрыто тяжелыми замками действительности, теперь всколыхнулось, взорвалось и расцветило мою жизнь яркими красками. И весь мой мир, который уже много лет для меня представал в однообразном сером цвете, теперь заиграл, заискрился и запел в моей душе. Я поняла, что приехала не зря. Дождь, который прошел в Париже несколько лет назад, вдруг окончился, выглянуло солнце. На платанах снова желтели листья. В проулке на секунду мелькнул светлый купол Сакре-Кер. Автобус стал останавливаться возле отелей. Туристы с сумками поочереди пробирались к выходу. Мы проехали бульвар Бонн-Нувель, и я узнала нашу станцию метро. Лена, Мари и я остались в салоне последними. Автобус остановился, не доезжая до арки Сен-Дени. Крошечная улочка Мазагра, я точно это вспомнила, была налево.
– Гостиница «Королевская опера», – объявил нам наш трансферист. – Автобусу туда ехать нельзя. Но здесь два шага пешком. Пойдемте, я провожу.
Лена и Мари пошли к дверям. Я поковыляла за ними.
– Что с вами? – спросила Мари, случайно обернувшись.
– Ничего.
Теперь они все смотрели на меня.
– Мадмуазель, могу я чем-нибудь помочь? – участливо спросил трансферист, когда я вышла. Он даже взял у меня мою сумку.
– Ты плакала? – спросила Лена.
– Нет. Это дождь. – Я сама не понимала, чего я несла.
– Дождь? – Они взглянули на безоблачное небо.
– Пустяки, – заверила я.
Мари на меня внимательно посмотрела. Я сделала вид, что инцидент исчерпан, и храбро вошла в те же гостиничные двери, в которые уже входила раньше. Трансферист отнес наши ваучеры за стойку регистрации. Лена вытащила свой паспорт. Мари присела в сторонке. Холл не показался мне знакомым, и это позволило мне без эксцессов тоже отдать свой паспорт вежливой девушке-администратору. Трансферист, попрощавшись с Мари и не обращая больше внимания на нас, ушел. Мы с Леной получили ключи и потащили вещи к лифту. Мари пошла с нами. В лифте зеркало отражало нашу группу в полный рост. Я хотела отвернуться, но не удержалась. В зеркале стояли Лена, Мари и еще какая-то женщина. Я даже сразу не поняла, что это – я. Хотя пример с пудреницей мог бы послужить мне уроком. Как же они должны воспринимать меня? Во мне снова поднялся тот страх, который приходил ко мне по ночам. Все сбылось. Так и есть. Я больше не тот человек, которого я в себе знала. Эта тусклая, злая, больная тетка – это была и я, и не я. Я просто устала с дороги! Пришли на ум спасительные слова из тех дней. Нет, врешь. Дорога тут ни при чем, – расхохотался мой страх. Теперь эта женщина – это ты. И такой, какой ты была, ты больше никогда не будешь. Я закрыла глаза. Бывают же в жизни совпадения! Зачем я приехала в эту же самую гостиницу! Как глупо было с моей стороны во всем довериться Лене. Почему я не посмотрела ваучер с названием отеля, еще когда мы были в Москве? Я не смогу, не смогу здесь жить!
– Приехали! – Лена толкнула меня под локоть. Двери лифта раскрылись, мы подтащили вещи к своему номеру, Лена вставила карточку-ключ…
И вот тут меня и прорвало. Желтые шторы, шкафчик без дверок и что-то похожее на козетку… От козетки мне стало по-настоящему плохо. Я впомнила, что ОН обожал меня любить именно на этой (а может быть, на такой же точно, но я решила, что на ЭТОЙ) козетке. Я вдруг завыла. Завыла, бросилась на эту довольно шаткую вещицу грудью и стала обливать ее слезами. Лена и Маша остолбенело стояли посреди крошечного номера.
– Таня, ты что? – Лена неуверенно погладила меня по спине. Я только дернула ногой и зарычала:
– Отстань!