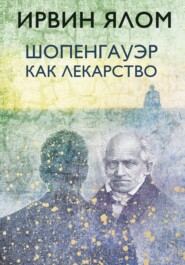По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мамочка и смысл жизни. Психотерапевтические истории
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я все понимаю, но не могу смириться. Я не хочу, чтобы мама навещала меня каждый день. Для меня невыносимо, что она так вплелась во все волокна моего мозга, что мне уже никогда не удастся выполоть ее окончательно. А самое невыносимое – что под конец жизни я вынужден спрашивать: «Я молодец, мама?»
Помню ее большое мягкое кресло в доме престарелых в Вашингтоне. Оно частично загораживало дверь в ее квартирку, а по бокам его, как стражи, стояли два стола, на которых лежали стопками книги – все, которые я когда-либо написал, а некоторые и не по одному экземпляру. Больше десятка книг, да еще десятка два переводов на другие языки – стопки опасно кренились. Я часто воображал себе: один подземный толчок средней силы – и маму накроет обвалом книг, написанных ее единственным сыном.
Когда бы я ни пришел, я заставал ее в этом кресле, с двумя-тремя моими книгами на коленях. Она их пробовала на вес, нюхала, гладила – но не читала. Сейчас она была почти слепая. Но и раньше, когда зрение еще не изменило ей, она бы в них ничего не поняла: ее единственным образованием были курсы натурализации, которые она должна была пройти, чтобы стать гражданкой США.
Я – писатель. А мама не может читать. И все равно, чтобы найти смысл трудов всей своей жизни, я иду к маме. Как она должна мерить мои труды? По весу, по тяжести моих книг? По картинкам, по тефлоновой гладкости суперобложек, словно жирной на ощупь? Все мои неустанные исследования, вдохновение, скрупулезный поиск нужной мысли, ускользающий поворот красивой фразы – ничто из этого ей не знакомо.
В чем смысл жизни? Смысл моей жизни? В тех самых книгах, стопки которых кренятся у мамы на столе, содержатся многозначительные ответы на эти вопросы. «Нам по природе свойственно искать смысл, – писал я, – и нам приходится считаться с тем неудобным фактом, что нас забросили во вселенную, которая изначально бессмысленна». И поэтому, объяснял я дальше, чтобы избежать отрицания всего и вся, мы вынуждены брать на себя сразу две задачи. Сначала – придумать или найти дело, в котором для нас будет заключаться смысл жизни, – достаточно жизнеспособное, чтобы нам его хватило на всю жизнь. А потом мы должны умудриться заставить себя забыть о том, что мы его придумали, и внушить себе, что это дело – совсем и не наше изобретение, что оно существует независимо от нас, где-то там, а мы просто его обнаружили.
Я притворяюсь, когда говорю, что принимаю выбор каждого человека и не сужу его. Втайне я делю все жизненные пути на медные, серебряные и золотые. Некоторыми людьми всю жизнь движет стремление отомстить кому-то, восторжествовать; другие, спеленутые отчаянием, мечтают лишь о покое, одиночестве, о том, чтобы не было больно; третьи посвящают жизнь поискам успеха, процветания, власти, истины; четвертые хотят переступить через себя и раствориться в чем-нибудь или ком-нибудь: любимом человеке или божественной сущности. Есть и пятые, которые находят смысл своей жизни в служении, в самоактуализации, в творчестве.
«Чтобы не погибнуть от истины, – сказал Ницше, – у нас есть искусство». Поэтому золотым путем я считаю творчество, поэтому я превратил всю свою жизнь, весь опыт, все фантазии в преющую компостную кучу, на которой время от времени пытаюсь вырастить что-нибудь новое и прекрасное.
Но мой сон говорит о другом. Он утверждает, что на самом деле я всю жизнь преследовал совершенно другую цель – заслужить одобрение покойной мамы.
Этот сон как приговор: он слишком силен, чтобы его игнорировать, и слишком болезнен, чтобы о нем забыть. Но я знаю, что сны не такие уж неумолимые, они поддаются объяснению и изменению. Я вожусь со снами почти всю жизнь. Я умею их приручать, разбирать на части и собирать заново. Я знаю, как выжать из них секреты…
И вот я опять роняю голову на подушку и уплываю, перематывая сон обратно к вагончику «Пещеры ужасов».
Вагончик резко останавливается, меня прижимает к железной скобе. Еще миг, и он начинает двигаться назад, медленно проезжает меж хлопающих створок дверей и снова окунается в солнечный свет парка Глен Эко.
– Мама, мама! – кричу я, размахивая руками. – Я молодец?
Она меня слышит. Я вижу, как она проталкивается через толпу, распихивая людей направо и налево.
– Игвин, что за вопрос, – говорит она, отцепляя скобу и вытаскивая меня из вагончика.
Я смотрю на нее. На вид ей лет пятьдесят или шестьдесят, она, крепкая, коренастая, без видимого усилия несет большую, битком набитую хозяйственную сумку с вышивкой и деревянными ручками. Мама неказиста, но не знает этого и выступает, задрав подбородок, словно красавица. Вижу знакомые складки плоти на руке чуть выше локтя и чулки, скомканные и подвязанные чуть выше колен. Она влепляет мне крепкий мокрый поцелуй. Я симулирую взаимность.
– Ты молодец! Большего и желать нельзя. Столько книг. Я тобой горжусь. Если б только твой папа это видел.
– Мама, откуда ты знаешь, что я молодец? Откуда тебе знать? Ты же не можешь прочесть то, что я написал… ты плохо видишь…
– Уж что я знаю, то знаю. Ты только погляди на эти книги.
Она открывает свою хозяйственную сумку, достает две мои книги и нежно гладит их.
– Большие книги. Красивые.
Я смотрю, как она гладит их, и мне становится не по себе.
– Важно, что внутри. Может, там одна чепуха.
– Игвин, не говори narishkeit – глупостей. Прекрасные книги!
– Мама, что ты их все время таскаешь с собой, даже в Глен Эко? Как будто святилище какое-то устроила. Ты же не думаешь, что…
– Про тебя все знают. Весь мир. Моя парикмахерша говорит, ее дочка проходит твои книги в школе.
– Парикмахерша? Ну, конечно, она – главная специалистка!
– Все говорят. Я всем говорю. Почему бы нет?
– Мама, тебе что, делать больше нечего? Почему бы тебе не сходить в воскресенье к друзьям? К Хане, Герти, Любе, Дороти, Сэму, к твоему брату Саймону? Что ты вообще делаешь в Глен Эко?
– Тебе что, стыдно, что я тут? Ты всегда меня стеснялся. А где мне еще быть?
– Мама, я вот что хочу сказать… мы оба взрослые люди. Мне уже за шестьдесят. Может, нам уже хватит видеть одни сны на двоих.
– Ты всегда меня стыдился.
– Я этого не говорил. Ты меня не слушаешь.
– Всегда думал, что я глупая. Всегда думал, что я ничего не понимаю.
– Я этого не говорил. Я говорил, что ты знаешь не все. Просто ты никогда… никогда…
– Что я никогда? Ну, говори. Раз уж начал. Я знаю, что ты собираешься сказать.
– А что я собираюсь сказать?
– Нет, Игвин, ты уж сам скажи. Если я скажу, ты все переиначишь.
– Ты никогда меня не слушаешь. Ты вечно говоришь о вещах, о которых ничего не знаешь.
– Я тебя не слушаю? Я тебя не слушаю?! Скажи, Игвин, а ты-то меня слушаешь? Ты-то про меня что-нибудь знаешь?
– Ты права, мама. Мы оба не умеем друг друга слушать.
– Нет уж, Игвин. Я-то умею слушать, еще как умею.
Я каждую ночь слушала тишину – как приходила домой с лавки, а ты из своего кабинета даже на второй этаж подняться не мог. Ни здрасти сказать. Ни спросить, может, я устала за день. Как я могла тебя слушать, если ты со мной не разговаривал?
– Мне что-то не давало. Между нами как будто стенка была.
– Стенка? Хорошенькие вещи ты говоришь матери. Стенка. Я ее строила?
– Я этого не говорил. Только сказал, что стенка была. Я знаю, что отдалился от тебя. Почему? Не помню, мама, это было пятьдесят лет назад. Но я чувствовал: все, что ты мне говорила, было с подтекстом.
– Вос? Текстом?
– Я имею в виду то, что ты всегда была недовольна. Мне приходилось держаться подальше, чтобы ты меня не критиковала. Я в те годы и так-то себя не очень уверенно чувствовал и уж точно не нуждался в твоей критике.
– Почему это ты себя неуверенно чувствовал? Все эти годы мы с папой работали в магазине, чтобы ты мог учиться. До полуночи работали. А сколько раз ты мне звонил и просил тебе что-нибудь принести? Карандаши, бумагу… Помнишь Эла? Из винного магазина. Ему еще лицо порезали во время ограбления.
– Конечно, помню, мама. У него был шрам во весь нос.
– Ну вот, Эл подходил к телефону и всегда орал на весь магазин: «Это прынц! Прынц звонит! А чего бы прынцу самому не сходить за карандашами? Ему не вредно размяться». Элу просто было завидно: ему-то родители ничего не давали. И я никогда и не обращала на него внимания, пусть себе. Но он был прав: я тебя воспитала как принца. Когда бы ты ни позвонил – днем или ночью, – я бросала папу одного, даже если в лавке было полно покупателей, и мчалась на соседнюю улицу, к Меншу, в магазинчик «Все за 5 и 10 центов». И марки тебе были нужны. И тетради. И чернила. А потом и шариковые ручки. У тебя вся одежда была в чернилах. Ровно прынц… И никакой критики.
Помню ее большое мягкое кресло в доме престарелых в Вашингтоне. Оно частично загораживало дверь в ее квартирку, а по бокам его, как стражи, стояли два стола, на которых лежали стопками книги – все, которые я когда-либо написал, а некоторые и не по одному экземпляру. Больше десятка книг, да еще десятка два переводов на другие языки – стопки опасно кренились. Я часто воображал себе: один подземный толчок средней силы – и маму накроет обвалом книг, написанных ее единственным сыном.
Когда бы я ни пришел, я заставал ее в этом кресле, с двумя-тремя моими книгами на коленях. Она их пробовала на вес, нюхала, гладила – но не читала. Сейчас она была почти слепая. Но и раньше, когда зрение еще не изменило ей, она бы в них ничего не поняла: ее единственным образованием были курсы натурализации, которые она должна была пройти, чтобы стать гражданкой США.
Я – писатель. А мама не может читать. И все равно, чтобы найти смысл трудов всей своей жизни, я иду к маме. Как она должна мерить мои труды? По весу, по тяжести моих книг? По картинкам, по тефлоновой гладкости суперобложек, словно жирной на ощупь? Все мои неустанные исследования, вдохновение, скрупулезный поиск нужной мысли, ускользающий поворот красивой фразы – ничто из этого ей не знакомо.
В чем смысл жизни? Смысл моей жизни? В тех самых книгах, стопки которых кренятся у мамы на столе, содержатся многозначительные ответы на эти вопросы. «Нам по природе свойственно искать смысл, – писал я, – и нам приходится считаться с тем неудобным фактом, что нас забросили во вселенную, которая изначально бессмысленна». И поэтому, объяснял я дальше, чтобы избежать отрицания всего и вся, мы вынуждены брать на себя сразу две задачи. Сначала – придумать или найти дело, в котором для нас будет заключаться смысл жизни, – достаточно жизнеспособное, чтобы нам его хватило на всю жизнь. А потом мы должны умудриться заставить себя забыть о том, что мы его придумали, и внушить себе, что это дело – совсем и не наше изобретение, что оно существует независимо от нас, где-то там, а мы просто его обнаружили.
Я притворяюсь, когда говорю, что принимаю выбор каждого человека и не сужу его. Втайне я делю все жизненные пути на медные, серебряные и золотые. Некоторыми людьми всю жизнь движет стремление отомстить кому-то, восторжествовать; другие, спеленутые отчаянием, мечтают лишь о покое, одиночестве, о том, чтобы не было больно; третьи посвящают жизнь поискам успеха, процветания, власти, истины; четвертые хотят переступить через себя и раствориться в чем-нибудь или ком-нибудь: любимом человеке или божественной сущности. Есть и пятые, которые находят смысл своей жизни в служении, в самоактуализации, в творчестве.
«Чтобы не погибнуть от истины, – сказал Ницше, – у нас есть искусство». Поэтому золотым путем я считаю творчество, поэтому я превратил всю свою жизнь, весь опыт, все фантазии в преющую компостную кучу, на которой время от времени пытаюсь вырастить что-нибудь новое и прекрасное.
Но мой сон говорит о другом. Он утверждает, что на самом деле я всю жизнь преследовал совершенно другую цель – заслужить одобрение покойной мамы.
Этот сон как приговор: он слишком силен, чтобы его игнорировать, и слишком болезнен, чтобы о нем забыть. Но я знаю, что сны не такие уж неумолимые, они поддаются объяснению и изменению. Я вожусь со снами почти всю жизнь. Я умею их приручать, разбирать на части и собирать заново. Я знаю, как выжать из них секреты…
И вот я опять роняю голову на подушку и уплываю, перематывая сон обратно к вагончику «Пещеры ужасов».
Вагончик резко останавливается, меня прижимает к железной скобе. Еще миг, и он начинает двигаться назад, медленно проезжает меж хлопающих створок дверей и снова окунается в солнечный свет парка Глен Эко.
– Мама, мама! – кричу я, размахивая руками. – Я молодец?
Она меня слышит. Я вижу, как она проталкивается через толпу, распихивая людей направо и налево.
– Игвин, что за вопрос, – говорит она, отцепляя скобу и вытаскивая меня из вагончика.
Я смотрю на нее. На вид ей лет пятьдесят или шестьдесят, она, крепкая, коренастая, без видимого усилия несет большую, битком набитую хозяйственную сумку с вышивкой и деревянными ручками. Мама неказиста, но не знает этого и выступает, задрав подбородок, словно красавица. Вижу знакомые складки плоти на руке чуть выше локтя и чулки, скомканные и подвязанные чуть выше колен. Она влепляет мне крепкий мокрый поцелуй. Я симулирую взаимность.
– Ты молодец! Большего и желать нельзя. Столько книг. Я тобой горжусь. Если б только твой папа это видел.
– Мама, откуда ты знаешь, что я молодец? Откуда тебе знать? Ты же не можешь прочесть то, что я написал… ты плохо видишь…
– Уж что я знаю, то знаю. Ты только погляди на эти книги.
Она открывает свою хозяйственную сумку, достает две мои книги и нежно гладит их.
– Большие книги. Красивые.
Я смотрю, как она гладит их, и мне становится не по себе.
– Важно, что внутри. Может, там одна чепуха.
– Игвин, не говори narishkeit – глупостей. Прекрасные книги!
– Мама, что ты их все время таскаешь с собой, даже в Глен Эко? Как будто святилище какое-то устроила. Ты же не думаешь, что…
– Про тебя все знают. Весь мир. Моя парикмахерша говорит, ее дочка проходит твои книги в школе.
– Парикмахерша? Ну, конечно, она – главная специалистка!
– Все говорят. Я всем говорю. Почему бы нет?
– Мама, тебе что, делать больше нечего? Почему бы тебе не сходить в воскресенье к друзьям? К Хане, Герти, Любе, Дороти, Сэму, к твоему брату Саймону? Что ты вообще делаешь в Глен Эко?
– Тебе что, стыдно, что я тут? Ты всегда меня стеснялся. А где мне еще быть?
– Мама, я вот что хочу сказать… мы оба взрослые люди. Мне уже за шестьдесят. Может, нам уже хватит видеть одни сны на двоих.
– Ты всегда меня стыдился.
– Я этого не говорил. Ты меня не слушаешь.
– Всегда думал, что я глупая. Всегда думал, что я ничего не понимаю.
– Я этого не говорил. Я говорил, что ты знаешь не все. Просто ты никогда… никогда…
– Что я никогда? Ну, говори. Раз уж начал. Я знаю, что ты собираешься сказать.
– А что я собираюсь сказать?
– Нет, Игвин, ты уж сам скажи. Если я скажу, ты все переиначишь.
– Ты никогда меня не слушаешь. Ты вечно говоришь о вещах, о которых ничего не знаешь.
– Я тебя не слушаю? Я тебя не слушаю?! Скажи, Игвин, а ты-то меня слушаешь? Ты-то про меня что-нибудь знаешь?
– Ты права, мама. Мы оба не умеем друг друга слушать.
– Нет уж, Игвин. Я-то умею слушать, еще как умею.
Я каждую ночь слушала тишину – как приходила домой с лавки, а ты из своего кабинета даже на второй этаж подняться не мог. Ни здрасти сказать. Ни спросить, может, я устала за день. Как я могла тебя слушать, если ты со мной не разговаривал?
– Мне что-то не давало. Между нами как будто стенка была.
– Стенка? Хорошенькие вещи ты говоришь матери. Стенка. Я ее строила?
– Я этого не говорил. Только сказал, что стенка была. Я знаю, что отдалился от тебя. Почему? Не помню, мама, это было пятьдесят лет назад. Но я чувствовал: все, что ты мне говорила, было с подтекстом.
– Вос? Текстом?
– Я имею в виду то, что ты всегда была недовольна. Мне приходилось держаться подальше, чтобы ты меня не критиковала. Я в те годы и так-то себя не очень уверенно чувствовал и уж точно не нуждался в твоей критике.
– Почему это ты себя неуверенно чувствовал? Все эти годы мы с папой работали в магазине, чтобы ты мог учиться. До полуночи работали. А сколько раз ты мне звонил и просил тебе что-нибудь принести? Карандаши, бумагу… Помнишь Эла? Из винного магазина. Ему еще лицо порезали во время ограбления.
– Конечно, помню, мама. У него был шрам во весь нос.
– Ну вот, Эл подходил к телефону и всегда орал на весь магазин: «Это прынц! Прынц звонит! А чего бы прынцу самому не сходить за карандашами? Ему не вредно размяться». Элу просто было завидно: ему-то родители ничего не давали. И я никогда и не обращала на него внимания, пусть себе. Но он был прав: я тебя воспитала как принца. Когда бы ты ни позвонил – днем или ночью, – я бросала папу одного, даже если в лавке было полно покупателей, и мчалась на соседнюю улицу, к Меншу, в магазинчик «Все за 5 и 10 центов». И марки тебе были нужны. И тетради. И чернила. А потом и шариковые ручки. У тебя вся одежда была в чернилах. Ровно прынц… И никакой критики.