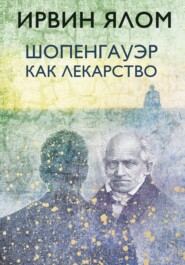По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Как я стал собой. Воспоминания
Автор
Жанр
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мне было знакомо это ежедневное будоражащее предвкушение, потому что время от времени я делал небольшие ставки (вопреки родительским увещеваниям). Я тратил на них пяти- или десятицентовики, которые иногда таскал из кассы магазина (воспоминание об этом мелком воровстве даже сейчас заставляет меня съеживаться со стыда). Мой отец неоднократно говорил, что только дураки стали бы ставить с такими шансами. Я понимал, что он прав, но тогда это была единственная азартная игра в городе.
Я делал ставки через Уильяма, одного из двух афроамериканцев, работавших в отцовском магазине, и всегда обещал ему 25 процентов от своих выигрышей. Уильям был конченым алкоголиком, но при этом живым, очаровательным человеком, хотя до образца честности ему было далеко. И я так и не узнал, действительно ли он делал ставки от меня; вполне возможно, он просто прикарманивал мои медяки или делал ставки от своего имени. Число я не угадал ни разу – и, подозреваю, даже если бы угадал, Уильям наверняка обжулил бы меня, наврав, что наш «жучок» в тот день не пришел, или сплетя какую-нибудь похожую историю. С лотереей было покончено, когда мне посчастливилось открыть для себя бейсбольный тотализатор, кости, пинокль и, самое главное, покер.
Глава восьмая
Краткая история гнева
Моя пациентка Бренда явилась на сегодняшний сеанс с заранее продуманной программой. Даже не взглянув на меня, она вошла в кабинет, села, раскрыла сумочку, вынула из нее свои заметки и начала зачитывать вслух заявление, в котором были перечислены жалобы на мое поведение во время нашей предыдущей встречи:
– Вы сказали, что я плохо работаю на наших сеансах и что другие ваши пациенты приходят лучше подготовленными к разговору о проблемах. Вы подразумевали, что вам гораздо больше нравится работать с другими вашими пациентами. И вы отругали меня за то, что я не рассказываю о своих снах и фантазиях. Вы приняли сторону моего прежнего терапевта и сказали, что все мои прошлые опыты терапии кончились неудачей из-за моего отказа раскрыться…
Весь предыдущий сеанс Бренда просидела молча (как нередко с ней случалось) и не проявляла инициативы, вынуждая меня вкалывать до седьмого пота: у меня было чувство, будто я пытаюсь вскрыть устрицу. На этот раз, слушая, как она зачитывает список обвинений, я настраивался защищаться. Умение управляться с гневом – не самая сильная моя черта. Меня тянуло указать Бренде на явные искажения в ее заявлении, но по ряду причин я придержал язык.
Прежде всего, это было весьма благоприятное начало сессии – намного более благоприятное, чем на прошлой неделе! Она раскрывалась, высвобождая мысли и чувства, которые прежде делали ее такой зажатой. И еще, хоть Бренда и искажала мои слова, я знал, что действительно думал кое-что из того, что она приписывала мне как высказанное вслух. Очень вероятно, эти мысли незаметно для меня самого окрасили мои слова.
– Бренда, я понимаю ваше раздражение. Кажется, вы немного неверно цитируете мои слова, но вы совершенно правы в главном: на прошлой неделе я действительно был расстроен и несколько обескуражен, – сказал я, а затем спросил: – Если у нас в будущем случится похожий сеанс, что вы посоветуете мне сделать? Какой наилучший вопрос я мог бы задать?
– Почему бы вам просто не спросить меня, что такого случилось на прошлой неделе, из-за чего у меня так скверно на душе? – отозвалась она.
Я последовал ее предложению и задал этот вопрос:
– Что случилось за истекшую неделю, от чего у вас так скверно на душе?
Это привело к продуктивной дискуссии о разочарованиях и обидах, которые Бренда пережила за последние несколько дней. Ближе к концу часа я вернулся к началу сеанса и спросил, как ей было, когда она так сильно на меня разозлилась. Бренда в ответ расплакалась, выражая благодарность за то, что я воспринял ее чувства всерьез, не стал отказываться от своей ответственности за их возникновение, и за то, что я трачу на нее свое время. Думаю, мы оба чувствовали, что вошли в новую фазу терапии.
Позже, когда я ехал на велосипеде к своему дому, эта сессия заставила меня задуматься о гневе. Несмотря на удовлетворенность тем, как мне удалось справиться с ситуацией, я знал, что мне еще предстоит большая личная работа в этой области. Я знал, что мне было бы гораздо более дискомфортно, если бы я не испытывал такую сильную симпатию к Бренде и не был уверен, что ей трудно меня критиковать. Кроме того, я не сомневался, что ощутил бы куда бо?льшую угрозу себе, будь моим пациентом разгневанный мужчина.
Мне всегда было нелегко в ситуации конфронтации, как личной, так и профессиональной. И я старательно избегал любых административных постов, не позволяющих от нее уклониться, – например, должностей председателя, главы комитета или декана. Лишь однажды, через пару лет после окончания ординатуры, я согласился на собеседование на председательскую должность – в моей альма-матер, Университете Джонса Хопкинса. К счастью – для меня и для университета, – на этот пост выбрали другого претендента. Я всегда говорил себе, что уклонение от административных постов было мудрым шагом, поскольку мои истинные сильные стороны лежат в области клинических исследований, практики и литературных трудов. Но должен признать, что моя боязнь конфликтов и общая стеснительность сыграли в этом важную роль.
Моя жена знает, что я предпочитаю небольшие компании – из четырех, самое большее шести человек, – и она находит забавным, что я стал специалистом в групповой психотерапии. На самом же деле мой опыт ведения групп оказался терапевтическим не только для моих пациентов, но и для меня самого: благодаря ему мое ощущение комфорта в группах значительно укрепилось, и долгое время я почти не чувствовал тревоги, выступая перед большими аудиториями. Но, с другой стороны, такие выступления всегда проходят на моих условиях: я предпочитаю не участвовать в спонтанных публичных дебатах, потому что в таких ситуациях не отличаюсь быстротой мышления. Одно из преимуществ старости – почтительное отношение аудитории: уже много лет – да что там, десятилетий! – ни коллеги, ни дотошные слушатели из зала не говорили мне ничего провокационного.
Я останавливаюсь минут на десять, чтобы понаблюдать за тренировкой теннисной команды школы Ганна, мысленно возвращаясь к тем дням, когда я сам тренировался в теннисной команде школы Рузвельта. Я был шестым номером в команде из шести игроков, хотя играл гораздо лучше, чем Нельсон, – пятый номер. Однако всякий раз, когда нас ставили друг против друга, он подавлял меня своей агрессивностью и ругательствами, а главное – своей манерой в решающий момент прервать игру и замереть на несколько секунд, произнося молитву. Тренер не счел нужным меня поддержать и велел «взрослеть и справляться».
Я продолжаю путь, думая о своих пациентах, – адвокатах и генеральных директорах, для которых конфликт – лучший путь к успеху, и только дивлюсь их всегдашней готовности к бою. Я никогда не понимал, как им удалось стать такими, – равно как и того, почему я сам так стараюсь избегать конфликтов. Вспоминаю задир из начальной школы, которые грозились поколотить меня после занятий. Вспоминаю, как читал рассказы о мальчиках, чьи отцы учили их боксу, и как мне отчаянно хотелось, чтобы у меня тоже был такой отец.
Я жил в те времена, когда евреи никогда не дрались, зато их поколачивали все, кому не лень. Единственным исключением был Билли Конн, боксер-еврей, – и я потерял кучу денег, поставив на него, когда он вышел против Джо Луиса. А потом, много лет спустя, я узнал, что он, оказывается, не был евреем.
Самозащита была серьезной проблемой в первые четырнадцать лет моей жизни. Мы жили в неблагополучном районе, где было небезопасно удаляться даже на небольшое расстояние от дома. Три раза в неделю я ходил в кинотеатр «Сильван», расположенный совсем рядом, – за углом от нашего магазина. Поскольку в каждом сеансе показывали по два фильма, я смотрел по шесть фильмов в неделю. Обычно это были вестерны или документальные ленты о Второй мировой войне. Мои родители без колебаний отпускали меня, полагая, что в кинотеатре мне ничто не грозит. Думаю, у них становилось легче на душе, пока я был в библиотеке, в кино или сидел дома за книгой: хотя бы на эти пятнадцать-двадцать часов в неделю я был избавлен от опасностей.
Но угроза существовала всегда. Мне было около одиннадцати, и однажды, когда я субботним вечером работал в магазине, мать попросила меня принести ей рожок кофейного мороженого из аптеки через четыре дома от нашего по той же улице. В соседнем доме была китайская прачечная, потом парикмахерская с выставленными в витрине пожелтевшими фотографиями разных типов стрижек, затем крохотная, забитая всякой всячиной скобяная лавка, и, наконец, аптека. Там помимо лекарств была маленькая, на восемь табуретов, закусочная-стойка, с которой торговали сэндвичами и мороженым. Я взял кофейный рожок, уплатил десять центов (рожок с одним шариком стоил пять, но мать всегда предпочитала двойную порцию) и вышел на улицу. Там меня тут же окружили четверо грозных на вид белых подростков на год-два старше меня. Приход компании белых парней в наш «черный» район был явлением необычным, рискованным и, как правило, сулившим неприятности.
– Ну и кому же это мы несем мороженое? – злобно рыкнул один из них, пацан с маленькими тусклыми глазками, жестким лицом, стрижкой ежиком и красной банданой на шее.
– Моей матери, – промямлил я, исподтишка оглядываясь по сторонам в поисках путей отступления.
– Ах, для мамочки? А сам попробовать не хочешь? – фыркнул он, схватил меня за руку и ткнул рожком мне в лицо.
Как раз в этот момент группа темнокожих ребят, моих друзей, появилась из-за угла и двинулась к нам по улице. Они увидели, что происходит, и окружили нас. Один из них, Леон, наклонился ко мне и сказал:
– Ирв, чего ты терпишь этого козла, ты его одной левой сделаешь. – А потом шепнул: – Давай, тот апперкот, который я тебе показывал.
Как раз в этот миг я услышал гулкие торопливые шаги и увидел отца и Уильяма, рассыльного из магазина, которые бежали к нам по улице. Отец схватил меня за руку и потащил прочь, в безопасную гавань «Блумингдейл-Маркета».
Разумеется, мой отец поступил правильно. Для собственного сына я сделал бы то же самое. Ни один отец не пожелает своему ребенку оказаться в центре межрасовой уличной драки. И все же я часто вспоминаю об этом «спасении» с сожалением. Лучше бы я подрался с тем парнем и продемонстрировал ему свой жалкий апперкот. Я никогда прежде не противостоял агрессорам – и тогда, в окружении друзей, которые защитили бы меня, это была идеальная возможность. Тот парень был примерно моих габаритов, хоть и чуть старше, и я бы стал намного лучше относиться к себе, если бы обменялся с ним ударами. Да и каким мог быть наихудший исход этого приключения? Разбитый нос, синяк под глазом – небольшая цена за то, чтобы в кои-то веки занять решительную позицию и не отступать.
Я знаю, что паттерны поведения взрослого человека сложны и никогда не определяются единичным событием, и все же упорно верю, что моя неловкость в те моменты, когда приходится иметь дело с открытым гневом, моя склонность избегать любых конфронтаций, даже горячих споров, мое нежелание соглашаться на административные посты, влекущие за собой конфликты, – все было бы иначе, если бы мой отец и Уильям не выволокли меня из той стычки много лет назад. Но при этом я понимаю, что рос в атмосфере страха: железные решетки на окнах магазина, опасности со всех сторон и довлевшая над всеми нами история геноцида евреев в Европе… Бегство было единственной стратегией, которой обучил меня отец.
Пока я описываю этот случай, в моем сознании всплывает другая сцена: мы с матерью собрались в кино и вошли в «Сильван», как раз когда фильм уже начинался. Мать редко ходила со мной в кино, тем более – посреди воскресного дня, но она обожала Фреда Астера и часто смотрела фильмы с ним. Совместный поход в кино не доставлял мне радости, поскольку мать вела себя невоспитанно, часто невежливо, и я никогда не знал, чего от нее ждать. Мне было стыдно перед друзьями за нее.
В кинозале мать заметила два места в центральном ряду и плюхнулась на одно из них. Парень, сидевший рядом с одним из этих свободных мест, сказал ей:
– Эй, леди, у меня здесь друг сидит.
– Ой, фу-ты ну-ты, скажите, пожалуйста! У него здесь друг сидит! – громко фыркнула она, так что услышали все, сидевшие поблизости.
Я пытался стать невидимкой, натягивая ворот рубашки на голову и прикрывая лицо. Тут пришел товарищ этого парня, и они оба, ругаясь и бормоча себе под нос угрозы, перебрались на боковой ряд. Вскоре после начала фильма я искоса бросил на них взгляд, и этот парень поймал его, показал мне кулак и одними губами произнес: «Я еще до тебя доберусь».
Это как раз и был тот мальчишка, который размазал мне по лицу купленное для матери мороженое. Поскольку ей он отомстить не мог, он запомнил меня и долго ждал своего часа, пока не подловил меня на улице одного. Известие, что тот рожок предназначался для моей матери, удвоило его удовольствие: он сумел достать нас обоих одним ударом!
Все это звучит вполне правдоподобно и годится для связного сюжетного повествования. Насколько же сильно в нас побуждение завершать гештальты и складывать гладко звучащие истории! Но правдив ли этот рассказ? Спустя семьдесят лет у меня нет никакой надежды раскопать «реальные» факты, но, возможно, сила моих переживаний в эти моменты, желание драться и напавший на меня паралич – все это каким-то образом связало их воедино. Правда ли это? Увы, я теперь уже не уверен, был ли это и вправду тот самый мальчик и верно ли я выстроил временную последовательность: насколько я понимаю, инцидент с мороженым вполне мог предшествовать случаю в кино…
По мере того как я старею, становится все труднее проверять ответы на такие вопросы. Я пытаюсь восстановить фрагменты моей юности, но когда обращаюсь за подтверждением к сестре, кузенам и друзьям, меня потрясает то, насколько по-разному мы все это помним. И в своей повседневной работе, помогая пациентам реконструировать ранние годы их жизни, я все больше убеждаюсь, сколь хрупка и изменчива природа реальности. Мемуары – без сомнения, это касается и данных мемуаров – являются вымыслом в гораздо большей степени, чем нам хочется думать.
Глава девятая
Красный стол
Мой кабинет представляет собой студию, расположенную примерно в сорока пяти метрах от дома, но оба эти здания настолько утопают в листве, что из окон одного почти не видно другое. Я провожу бо?льшую часть своего дня в кабинете, все утро пишу, а после полудня принимаю пациентов. Когда мне не сидится на месте, я выхожу наружу и ухаживаю за бонсаями, подрезая их, поливая, любуясь грациозными формами и размышляя, о чем бы спросить Кристину, специалистку по бонсаям и близкую подругу моей дочери, живущую в квартале от нас.
После вечерней прогулки на велосипеде или пешком с Мэрилин мы проводим остаток вечера в библиотеке – читаем, беседуем или смотрим какое-нибудь кино. В этой комнате большие угловые окна, она выходит на террасу из красного дерева в деревенском стиле, с садовой мебелью и большой купальней, тоже из красного дерева, окруженной вечнозелеными калифорнийскими дубами.
Вдоль стен библиотеки выстроились сотни книг, а меблирована она в непринужденном калифорнийском стиле, с кожаным креслом-реклайнером и диваном в красно-белом чехле. В одном углу, составляя резкий контраст всему остальному, стоит кричаще красный стол моей матери (подделка под барокко, с четырьмя гнутыми, черными с золотом ножками), а вокруг него – дополняющие комплект четыре стула с красными кожаными сиденьями. За этим столом я играю в шахматы и другие настольные игры со своими детьми, так же как семьдесят лет назад по воскресным утрам играл в шахматы со своим отцом.
Мэрилин не любит этот стол, не сочетающийся ни с одним предметом в нашем доме, и с удовольствием избавилась бы от него. Но она давным-давно отказалась от борьбы. Она знает, что стол много для меня значит, и согласилась оставить его в библиотеке, но с условием, что он будет отправлен в вечную ссылку в дальний угол. Этот стол связан с одним из наиболее значимых событий в моей жизни, и всякий раз, как я гляжу на него, меня охватывают ностальгия, ужас и чувство освобождения.
Мои ранние годы делятся на две части: до и после моего четырнадцатого дня рождения. До своих четырнадцати лет я жил с матерью, отцом и сестрой в маленькой дешевой квартирке над нашим продуктовым магазином. Она находилась прямо над торговым залом, но вход в нее располагался снаружи магазина, сразу за углом. Там была передняя, в которую угольщик регулярно сгружал уголь, поэтому дверь не запиралась. В холода в ней нередко можно было наткнуться на одного-двух алкоголиков, спящих прямо на полу.
Вход в семейную квартиру над продуктовым магазином, ок. 1943 г.
На втором этаже были двери, ведшие в две квартиры; нашей была та, что выходила окнами на Первую улицу. У нас было две спальни – одна для родителей, другая для сестры. Я спал в маленькой столовой на диване, который можно было раскладывать в кровать. Когда мне было десять лет, сестра поступила в колледж и уехала, и я занял ее спальню. У нас была маленькая кухонька с крохотным столиком, за которым я всегда ел. За все свое детство я никогда, ни разу не трапезничал с матерью или отцом (не считая воскресений, когда мы ужинали вместе со всей нашей многочисленной родней – тогда за стол садились от двенадцати до двадцати человек). Мать готовила еду и оставляла на плите, а мы с сестрой съедали ее за маленьким кухонным столом.
Мои приятели обитали в таких же жилищах, так что мне никогда и в голову не приходило желать лучшей квартиры, но у нашей была одна ужасная особенность – тараканы. Они кишели повсюду, несмотря на усилия службы по уничтожению насекомых. Я боялся их до ужаса и боюсь по сей день. Каждый вечер мать ставила ножки моей кровати в миски, наполненные водой, а иногда и керосином, чтобы не дать мерзким тварям забраться в постель. Но они все равно нередко оказывались в ней, падая с потолка. По ночам, стоило только выключить свет, как дом безраздельно переходил в их владение, и я слышал, как они носятся по крытому линолеумом полу нашей крохотной кухоньки.
Я не осмеливался по ночам дойти до туалета и пользовался вместо этого кувшином, который ставил у кровати. Помнится, однажды, когда мне было лет десять-одиннадцать, я сидел в гостиной и читал книжку, и тут гигантский таракан пролетел через всю комнату и шлепнулся ко мне на колени (да, тараканы способны летать – они не так часто это делают, но, несомненно, умеют!). Я закричал, отец прибежал на помощь, сбил таракана на пол и наступил на него. Зрелище раздавленного таракана меня доконало, и я, едва сдерживая рвоту, помчался в туалет. Отец пытался успокоить меня, но никак не мог понять, как можно так расстраиваться из-за дохлого насекомого. (Моя фобия тараканов никуда не делась, просто перешла в дремлющее состояние, хотя уже давно не актуальна: в Пало-Альто слишком сухой климат для тараканов, и я не видел ни одного вот уже полвека – это одно из великих преимуществ жизни в Калифорнии.)
А потом однажды, когда мне было четырнадцать, мать обмолвилась – почти что между делом, – что купила дом и что очень скоро мы переезжаем. Следующее, что я помню, – это как вошел в наше новое жилище на чудесной тихой улице всего в квартале от парка Рок-Крик. Это был красивый просторный дом с тремя спальнями, кухней и гостиной. Полуподвал, по-простецки отделанный сосновыми досками, был задуман как домашний спортзал. На верхнем уровне была крытая веранда, отделенная от прилегающей комнаты дверью с забранной сеткой от насекомых секцией. Завершала картину прилегающая к дому небольшая огороженная забором лужайка. Этот переезд мать задумала и осуществила практически в одиночку: она купила этот дом, а отец даже ни разу не взял выходной в магазине, чтобы посмотреть его.
Когда мы переехали? Видел ли я грузчиков, таскавших вещи? Каким было мое первое впечатление от этого дома? Какой была моя первая ночь там? Что насчет сильнейшего удовольствия от того, что я навеки распрощался с населенной тараканами жалкой халупой, со стыдом и грязью, нищетой и алкоголиками, спавшими прямо у нас в передней? Я наверняка испытал все эти чувства, но помню очень мало. Возможно, меня слишком занимали тревоги и заботы, вызванные переходом в девятый класс в новой школе и приобретением новых друзей.
Я делал ставки через Уильяма, одного из двух афроамериканцев, работавших в отцовском магазине, и всегда обещал ему 25 процентов от своих выигрышей. Уильям был конченым алкоголиком, но при этом живым, очаровательным человеком, хотя до образца честности ему было далеко. И я так и не узнал, действительно ли он делал ставки от меня; вполне возможно, он просто прикарманивал мои медяки или делал ставки от своего имени. Число я не угадал ни разу – и, подозреваю, даже если бы угадал, Уильям наверняка обжулил бы меня, наврав, что наш «жучок» в тот день не пришел, или сплетя какую-нибудь похожую историю. С лотереей было покончено, когда мне посчастливилось открыть для себя бейсбольный тотализатор, кости, пинокль и, самое главное, покер.
Глава восьмая
Краткая история гнева
Моя пациентка Бренда явилась на сегодняшний сеанс с заранее продуманной программой. Даже не взглянув на меня, она вошла в кабинет, села, раскрыла сумочку, вынула из нее свои заметки и начала зачитывать вслух заявление, в котором были перечислены жалобы на мое поведение во время нашей предыдущей встречи:
– Вы сказали, что я плохо работаю на наших сеансах и что другие ваши пациенты приходят лучше подготовленными к разговору о проблемах. Вы подразумевали, что вам гораздо больше нравится работать с другими вашими пациентами. И вы отругали меня за то, что я не рассказываю о своих снах и фантазиях. Вы приняли сторону моего прежнего терапевта и сказали, что все мои прошлые опыты терапии кончились неудачей из-за моего отказа раскрыться…
Весь предыдущий сеанс Бренда просидела молча (как нередко с ней случалось) и не проявляла инициативы, вынуждая меня вкалывать до седьмого пота: у меня было чувство, будто я пытаюсь вскрыть устрицу. На этот раз, слушая, как она зачитывает список обвинений, я настраивался защищаться. Умение управляться с гневом – не самая сильная моя черта. Меня тянуло указать Бренде на явные искажения в ее заявлении, но по ряду причин я придержал язык.
Прежде всего, это было весьма благоприятное начало сессии – намного более благоприятное, чем на прошлой неделе! Она раскрывалась, высвобождая мысли и чувства, которые прежде делали ее такой зажатой. И еще, хоть Бренда и искажала мои слова, я знал, что действительно думал кое-что из того, что она приписывала мне как высказанное вслух. Очень вероятно, эти мысли незаметно для меня самого окрасили мои слова.
– Бренда, я понимаю ваше раздражение. Кажется, вы немного неверно цитируете мои слова, но вы совершенно правы в главном: на прошлой неделе я действительно был расстроен и несколько обескуражен, – сказал я, а затем спросил: – Если у нас в будущем случится похожий сеанс, что вы посоветуете мне сделать? Какой наилучший вопрос я мог бы задать?
– Почему бы вам просто не спросить меня, что такого случилось на прошлой неделе, из-за чего у меня так скверно на душе? – отозвалась она.
Я последовал ее предложению и задал этот вопрос:
– Что случилось за истекшую неделю, от чего у вас так скверно на душе?
Это привело к продуктивной дискуссии о разочарованиях и обидах, которые Бренда пережила за последние несколько дней. Ближе к концу часа я вернулся к началу сеанса и спросил, как ей было, когда она так сильно на меня разозлилась. Бренда в ответ расплакалась, выражая благодарность за то, что я воспринял ее чувства всерьез, не стал отказываться от своей ответственности за их возникновение, и за то, что я трачу на нее свое время. Думаю, мы оба чувствовали, что вошли в новую фазу терапии.
Позже, когда я ехал на велосипеде к своему дому, эта сессия заставила меня задуматься о гневе. Несмотря на удовлетворенность тем, как мне удалось справиться с ситуацией, я знал, что мне еще предстоит большая личная работа в этой области. Я знал, что мне было бы гораздо более дискомфортно, если бы я не испытывал такую сильную симпатию к Бренде и не был уверен, что ей трудно меня критиковать. Кроме того, я не сомневался, что ощутил бы куда бо?льшую угрозу себе, будь моим пациентом разгневанный мужчина.
Мне всегда было нелегко в ситуации конфронтации, как личной, так и профессиональной. И я старательно избегал любых административных постов, не позволяющих от нее уклониться, – например, должностей председателя, главы комитета или декана. Лишь однажды, через пару лет после окончания ординатуры, я согласился на собеседование на председательскую должность – в моей альма-матер, Университете Джонса Хопкинса. К счастью – для меня и для университета, – на этот пост выбрали другого претендента. Я всегда говорил себе, что уклонение от административных постов было мудрым шагом, поскольку мои истинные сильные стороны лежат в области клинических исследований, практики и литературных трудов. Но должен признать, что моя боязнь конфликтов и общая стеснительность сыграли в этом важную роль.
Моя жена знает, что я предпочитаю небольшие компании – из четырех, самое большее шести человек, – и она находит забавным, что я стал специалистом в групповой психотерапии. На самом же деле мой опыт ведения групп оказался терапевтическим не только для моих пациентов, но и для меня самого: благодаря ему мое ощущение комфорта в группах значительно укрепилось, и долгое время я почти не чувствовал тревоги, выступая перед большими аудиториями. Но, с другой стороны, такие выступления всегда проходят на моих условиях: я предпочитаю не участвовать в спонтанных публичных дебатах, потому что в таких ситуациях не отличаюсь быстротой мышления. Одно из преимуществ старости – почтительное отношение аудитории: уже много лет – да что там, десятилетий! – ни коллеги, ни дотошные слушатели из зала не говорили мне ничего провокационного.
Я останавливаюсь минут на десять, чтобы понаблюдать за тренировкой теннисной команды школы Ганна, мысленно возвращаясь к тем дням, когда я сам тренировался в теннисной команде школы Рузвельта. Я был шестым номером в команде из шести игроков, хотя играл гораздо лучше, чем Нельсон, – пятый номер. Однако всякий раз, когда нас ставили друг против друга, он подавлял меня своей агрессивностью и ругательствами, а главное – своей манерой в решающий момент прервать игру и замереть на несколько секунд, произнося молитву. Тренер не счел нужным меня поддержать и велел «взрослеть и справляться».
Я продолжаю путь, думая о своих пациентах, – адвокатах и генеральных директорах, для которых конфликт – лучший путь к успеху, и только дивлюсь их всегдашней готовности к бою. Я никогда не понимал, как им удалось стать такими, – равно как и того, почему я сам так стараюсь избегать конфликтов. Вспоминаю задир из начальной школы, которые грозились поколотить меня после занятий. Вспоминаю, как читал рассказы о мальчиках, чьи отцы учили их боксу, и как мне отчаянно хотелось, чтобы у меня тоже был такой отец.
Я жил в те времена, когда евреи никогда не дрались, зато их поколачивали все, кому не лень. Единственным исключением был Билли Конн, боксер-еврей, – и я потерял кучу денег, поставив на него, когда он вышел против Джо Луиса. А потом, много лет спустя, я узнал, что он, оказывается, не был евреем.
Самозащита была серьезной проблемой в первые четырнадцать лет моей жизни. Мы жили в неблагополучном районе, где было небезопасно удаляться даже на небольшое расстояние от дома. Три раза в неделю я ходил в кинотеатр «Сильван», расположенный совсем рядом, – за углом от нашего магазина. Поскольку в каждом сеансе показывали по два фильма, я смотрел по шесть фильмов в неделю. Обычно это были вестерны или документальные ленты о Второй мировой войне. Мои родители без колебаний отпускали меня, полагая, что в кинотеатре мне ничто не грозит. Думаю, у них становилось легче на душе, пока я был в библиотеке, в кино или сидел дома за книгой: хотя бы на эти пятнадцать-двадцать часов в неделю я был избавлен от опасностей.
Но угроза существовала всегда. Мне было около одиннадцати, и однажды, когда я субботним вечером работал в магазине, мать попросила меня принести ей рожок кофейного мороженого из аптеки через четыре дома от нашего по той же улице. В соседнем доме была китайская прачечная, потом парикмахерская с выставленными в витрине пожелтевшими фотографиями разных типов стрижек, затем крохотная, забитая всякой всячиной скобяная лавка, и, наконец, аптека. Там помимо лекарств была маленькая, на восемь табуретов, закусочная-стойка, с которой торговали сэндвичами и мороженым. Я взял кофейный рожок, уплатил десять центов (рожок с одним шариком стоил пять, но мать всегда предпочитала двойную порцию) и вышел на улицу. Там меня тут же окружили четверо грозных на вид белых подростков на год-два старше меня. Приход компании белых парней в наш «черный» район был явлением необычным, рискованным и, как правило, сулившим неприятности.
– Ну и кому же это мы несем мороженое? – злобно рыкнул один из них, пацан с маленькими тусклыми глазками, жестким лицом, стрижкой ежиком и красной банданой на шее.
– Моей матери, – промямлил я, исподтишка оглядываясь по сторонам в поисках путей отступления.
– Ах, для мамочки? А сам попробовать не хочешь? – фыркнул он, схватил меня за руку и ткнул рожком мне в лицо.
Как раз в этот момент группа темнокожих ребят, моих друзей, появилась из-за угла и двинулась к нам по улице. Они увидели, что происходит, и окружили нас. Один из них, Леон, наклонился ко мне и сказал:
– Ирв, чего ты терпишь этого козла, ты его одной левой сделаешь. – А потом шепнул: – Давай, тот апперкот, который я тебе показывал.
Как раз в этот миг я услышал гулкие торопливые шаги и увидел отца и Уильяма, рассыльного из магазина, которые бежали к нам по улице. Отец схватил меня за руку и потащил прочь, в безопасную гавань «Блумингдейл-Маркета».
Разумеется, мой отец поступил правильно. Для собственного сына я сделал бы то же самое. Ни один отец не пожелает своему ребенку оказаться в центре межрасовой уличной драки. И все же я часто вспоминаю об этом «спасении» с сожалением. Лучше бы я подрался с тем парнем и продемонстрировал ему свой жалкий апперкот. Я никогда прежде не противостоял агрессорам – и тогда, в окружении друзей, которые защитили бы меня, это была идеальная возможность. Тот парень был примерно моих габаритов, хоть и чуть старше, и я бы стал намного лучше относиться к себе, если бы обменялся с ним ударами. Да и каким мог быть наихудший исход этого приключения? Разбитый нос, синяк под глазом – небольшая цена за то, чтобы в кои-то веки занять решительную позицию и не отступать.
Я знаю, что паттерны поведения взрослого человека сложны и никогда не определяются единичным событием, и все же упорно верю, что моя неловкость в те моменты, когда приходится иметь дело с открытым гневом, моя склонность избегать любых конфронтаций, даже горячих споров, мое нежелание соглашаться на административные посты, влекущие за собой конфликты, – все было бы иначе, если бы мой отец и Уильям не выволокли меня из той стычки много лет назад. Но при этом я понимаю, что рос в атмосфере страха: железные решетки на окнах магазина, опасности со всех сторон и довлевшая над всеми нами история геноцида евреев в Европе… Бегство было единственной стратегией, которой обучил меня отец.
Пока я описываю этот случай, в моем сознании всплывает другая сцена: мы с матерью собрались в кино и вошли в «Сильван», как раз когда фильм уже начинался. Мать редко ходила со мной в кино, тем более – посреди воскресного дня, но она обожала Фреда Астера и часто смотрела фильмы с ним. Совместный поход в кино не доставлял мне радости, поскольку мать вела себя невоспитанно, часто невежливо, и я никогда не знал, чего от нее ждать. Мне было стыдно перед друзьями за нее.
В кинозале мать заметила два места в центральном ряду и плюхнулась на одно из них. Парень, сидевший рядом с одним из этих свободных мест, сказал ей:
– Эй, леди, у меня здесь друг сидит.
– Ой, фу-ты ну-ты, скажите, пожалуйста! У него здесь друг сидит! – громко фыркнула она, так что услышали все, сидевшие поблизости.
Я пытался стать невидимкой, натягивая ворот рубашки на голову и прикрывая лицо. Тут пришел товарищ этого парня, и они оба, ругаясь и бормоча себе под нос угрозы, перебрались на боковой ряд. Вскоре после начала фильма я искоса бросил на них взгляд, и этот парень поймал его, показал мне кулак и одними губами произнес: «Я еще до тебя доберусь».
Это как раз и был тот мальчишка, который размазал мне по лицу купленное для матери мороженое. Поскольку ей он отомстить не мог, он запомнил меня и долго ждал своего часа, пока не подловил меня на улице одного. Известие, что тот рожок предназначался для моей матери, удвоило его удовольствие: он сумел достать нас обоих одним ударом!
Все это звучит вполне правдоподобно и годится для связного сюжетного повествования. Насколько же сильно в нас побуждение завершать гештальты и складывать гладко звучащие истории! Но правдив ли этот рассказ? Спустя семьдесят лет у меня нет никакой надежды раскопать «реальные» факты, но, возможно, сила моих переживаний в эти моменты, желание драться и напавший на меня паралич – все это каким-то образом связало их воедино. Правда ли это? Увы, я теперь уже не уверен, был ли это и вправду тот самый мальчик и верно ли я выстроил временную последовательность: насколько я понимаю, инцидент с мороженым вполне мог предшествовать случаю в кино…
По мере того как я старею, становится все труднее проверять ответы на такие вопросы. Я пытаюсь восстановить фрагменты моей юности, но когда обращаюсь за подтверждением к сестре, кузенам и друзьям, меня потрясает то, насколько по-разному мы все это помним. И в своей повседневной работе, помогая пациентам реконструировать ранние годы их жизни, я все больше убеждаюсь, сколь хрупка и изменчива природа реальности. Мемуары – без сомнения, это касается и данных мемуаров – являются вымыслом в гораздо большей степени, чем нам хочется думать.
Глава девятая
Красный стол
Мой кабинет представляет собой студию, расположенную примерно в сорока пяти метрах от дома, но оба эти здания настолько утопают в листве, что из окон одного почти не видно другое. Я провожу бо?льшую часть своего дня в кабинете, все утро пишу, а после полудня принимаю пациентов. Когда мне не сидится на месте, я выхожу наружу и ухаживаю за бонсаями, подрезая их, поливая, любуясь грациозными формами и размышляя, о чем бы спросить Кристину, специалистку по бонсаям и близкую подругу моей дочери, живущую в квартале от нас.
После вечерней прогулки на велосипеде или пешком с Мэрилин мы проводим остаток вечера в библиотеке – читаем, беседуем или смотрим какое-нибудь кино. В этой комнате большие угловые окна, она выходит на террасу из красного дерева в деревенском стиле, с садовой мебелью и большой купальней, тоже из красного дерева, окруженной вечнозелеными калифорнийскими дубами.
Вдоль стен библиотеки выстроились сотни книг, а меблирована она в непринужденном калифорнийском стиле, с кожаным креслом-реклайнером и диваном в красно-белом чехле. В одном углу, составляя резкий контраст всему остальному, стоит кричаще красный стол моей матери (подделка под барокко, с четырьмя гнутыми, черными с золотом ножками), а вокруг него – дополняющие комплект четыре стула с красными кожаными сиденьями. За этим столом я играю в шахматы и другие настольные игры со своими детьми, так же как семьдесят лет назад по воскресным утрам играл в шахматы со своим отцом.
Мэрилин не любит этот стол, не сочетающийся ни с одним предметом в нашем доме, и с удовольствием избавилась бы от него. Но она давным-давно отказалась от борьбы. Она знает, что стол много для меня значит, и согласилась оставить его в библиотеке, но с условием, что он будет отправлен в вечную ссылку в дальний угол. Этот стол связан с одним из наиболее значимых событий в моей жизни, и всякий раз, как я гляжу на него, меня охватывают ностальгия, ужас и чувство освобождения.
Мои ранние годы делятся на две части: до и после моего четырнадцатого дня рождения. До своих четырнадцати лет я жил с матерью, отцом и сестрой в маленькой дешевой квартирке над нашим продуктовым магазином. Она находилась прямо над торговым залом, но вход в нее располагался снаружи магазина, сразу за углом. Там была передняя, в которую угольщик регулярно сгружал уголь, поэтому дверь не запиралась. В холода в ней нередко можно было наткнуться на одного-двух алкоголиков, спящих прямо на полу.
Вход в семейную квартиру над продуктовым магазином, ок. 1943 г.
На втором этаже были двери, ведшие в две квартиры; нашей была та, что выходила окнами на Первую улицу. У нас было две спальни – одна для родителей, другая для сестры. Я спал в маленькой столовой на диване, который можно было раскладывать в кровать. Когда мне было десять лет, сестра поступила в колледж и уехала, и я занял ее спальню. У нас была маленькая кухонька с крохотным столиком, за которым я всегда ел. За все свое детство я никогда, ни разу не трапезничал с матерью или отцом (не считая воскресений, когда мы ужинали вместе со всей нашей многочисленной родней – тогда за стол садились от двенадцати до двадцати человек). Мать готовила еду и оставляла на плите, а мы с сестрой съедали ее за маленьким кухонным столом.
Мои приятели обитали в таких же жилищах, так что мне никогда и в голову не приходило желать лучшей квартиры, но у нашей была одна ужасная особенность – тараканы. Они кишели повсюду, несмотря на усилия службы по уничтожению насекомых. Я боялся их до ужаса и боюсь по сей день. Каждый вечер мать ставила ножки моей кровати в миски, наполненные водой, а иногда и керосином, чтобы не дать мерзким тварям забраться в постель. Но они все равно нередко оказывались в ней, падая с потолка. По ночам, стоило только выключить свет, как дом безраздельно переходил в их владение, и я слышал, как они носятся по крытому линолеумом полу нашей крохотной кухоньки.
Я не осмеливался по ночам дойти до туалета и пользовался вместо этого кувшином, который ставил у кровати. Помнится, однажды, когда мне было лет десять-одиннадцать, я сидел в гостиной и читал книжку, и тут гигантский таракан пролетел через всю комнату и шлепнулся ко мне на колени (да, тараканы способны летать – они не так часто это делают, но, несомненно, умеют!). Я закричал, отец прибежал на помощь, сбил таракана на пол и наступил на него. Зрелище раздавленного таракана меня доконало, и я, едва сдерживая рвоту, помчался в туалет. Отец пытался успокоить меня, но никак не мог понять, как можно так расстраиваться из-за дохлого насекомого. (Моя фобия тараканов никуда не делась, просто перешла в дремлющее состояние, хотя уже давно не актуальна: в Пало-Альто слишком сухой климат для тараканов, и я не видел ни одного вот уже полвека – это одно из великих преимуществ жизни в Калифорнии.)
А потом однажды, когда мне было четырнадцать, мать обмолвилась – почти что между делом, – что купила дом и что очень скоро мы переезжаем. Следующее, что я помню, – это как вошел в наше новое жилище на чудесной тихой улице всего в квартале от парка Рок-Крик. Это был красивый просторный дом с тремя спальнями, кухней и гостиной. Полуподвал, по-простецки отделанный сосновыми досками, был задуман как домашний спортзал. На верхнем уровне была крытая веранда, отделенная от прилегающей комнаты дверью с забранной сеткой от насекомых секцией. Завершала картину прилегающая к дому небольшая огороженная забором лужайка. Этот переезд мать задумала и осуществила практически в одиночку: она купила этот дом, а отец даже ни разу не взял выходной в магазине, чтобы посмотреть его.
Когда мы переехали? Видел ли я грузчиков, таскавших вещи? Каким было мое первое впечатление от этого дома? Какой была моя первая ночь там? Что насчет сильнейшего удовольствия от того, что я навеки распрощался с населенной тараканами жалкой халупой, со стыдом и грязью, нищетой и алкоголиками, спавшими прямо у нас в передней? Я наверняка испытал все эти чувства, но помню очень мало. Возможно, меня слишком занимали тревоги и заботы, вызванные переходом в девятый класс в новой школе и приобретением новых друзей.