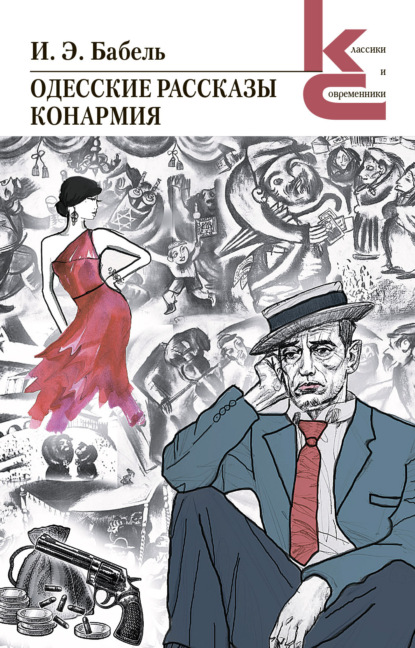По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Одесские рассказы. Конармия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, двигай, – сказал заведующий Майоров, – у тебя, отец, порядочек… Двигай…
Он занес ногу на подножку пролетки и вспомнил о Федьке.
– Это что за петрушка была?..
– Контуженый парень, – опустив глаза, сказал Бройдин, – и бывает невыдержанный… Но теперь ему объяснили, и он извиняется…
– Варит котелок, – сказал Майоров своему спутнику, отъезжая, – ворочает как надо…
Высокая лошадь несла к городу его и заведующего отделом благоустройства. По дороге им встретились старики и старухи, выгнанные из богадельни. Они прихрамывали, согнувшись под узелками, и плелись молча. Разбитные красноармейцы сгоняли их в ряды. Тележки парализованных скрипели. Свист удушья, покорное хрипение вырывалось из груди отставных канторов, свадебных шутов, поварих на обрезаниях и отслуживших приказчиков.
Солнце стояло высоко. Зной терзал груду лохмотьев, тащившихся по земле. Дорога их лежала по безрадостному, выжженному каменистому шоссе, мимо глинобитных хибарок, мимо полей, задавленных камнями, мимо раскрытых домов, разрушенных снарядами, и чумной горы. Невыразимо печальная дорога вела когда-то в Одессе от города к кладбищу.
Фроим Грач
В девятнадцатом году люди Бени Крика напали на арьергард добровольческих войск, вырезали офицеров и отбили часть обоза. В награду они потребовали у Одесского Совета три дня «мирного восстания», но разрешения не получили и вывезли поэтому мануфактуру из всех лавок, расположенных на Александровском проспекте. Деятельность их перенеслась потом на Общество взаимного кредита. Пропуская вперед клиентов, они входили в банк и обращались к артельщикам с просьбой положить в автомобиль, ждавший на улице, тюки с деньгами и ценностями. Прошел месяц, прежде чем их стали расстреливать. Тогда нашлись люди, сказавшие, что к делам поимки и арестов имеет отношение Арон Пескин, владелец мастерской. В чем состояла работа этой мастерской – установлено не было. На квартире Пескина стоял станок – длинная машина с покоробленным свинцовым валом; на полу валялись опилки и картон для переплетов.
Однажды в весеннее утро приятель Пескина Миша Яблочко постучался к нему в мастерскую.
– Арон, – сказал гость Пескину, – на улице дивная погода. В моем лице ты имеешь типа, который способен захватить с собой полбутылки с любительской закуской и поехать кататься по воздуху в Аркадию… Ты можешь смеяться над таким субъектом, но я любитель сбросить иногда все эти мысли с головы…
Пескин оделся и поехал с Мишей Яблочко на штейгере в Аркадию. Они катались до вечера; в сумерках Миша Яблочко вошел в комнату, где мадам Пескина мыла в корыте четырнадцатилетнюю свою дочь.
– Приветствую, – сказал Миша, снимая шляпу, – мы бесподобно провели время. Воздух – это что-то небывалое, но только надо наесться горохом, прежде чем говорить с вашим мужем… Он имеет надоедливый характер.
– Вы нашли кому рассказывать, – произнесла мадам Пескина, хватая дочь за волосы и мотая ее во все стороны. – Где он, этот авантюрист?
– Он отдыхает в палисаднике.
Миша снова приподнял шляпу, простился и уехал на штейгере. Мадам Пескина, не дождавшись мужа, пошла за ним в палисадник. Он сидел в шляпе панама, облокотившись о садовый стол, и скалил зубы.
– Авантюрист, – сказала ему мадам Пескина, – ты еще смеешься… У меня делается припадок от твоей дочери, она не хочет мыть голову… Пойди, имей беседу с твоей дочерью…
Пескин молчал и все скалил зубы.
– Бонабак, – начала мадам Пескина, заглянула мужу под шляпу панама и закричала.
Соседи сбежались на ее крик.
– Он не живой, – сказала им мадам Пескина. – Он мертвый.
Это была ошибка. Пескину в двух местах прострелили грудь и проломили череп, но он жил еще. Его отвезли в еврейскую больницу. Не кто другой, как доктор Зильберберг, сделал раненому операцию, но Пескину не посчастливилось – он умер под ножом. В ту же ночь Чека арестовала человека по прозвищу Грузин и его друга Колю Лапидуса. Один из них был кучером Миши Яблочко, другой ждал экипаж в Аркадии, на берегу моря у поворота, ведущего в степь. Их расстреляли после допроса, длившегося недолго. Один Миша Яблочко ушел из засады. След его потерялся, и несколько дней прошло прежде, чем на двор к Фроиму Грачу пришла старуха, торговавшая семечками. Она несла на руке корзину со своим товаром. Одна бровь ее мохнатым угольным кустом была поднята кверху, другая, едва намеченная, загибалась над веком. Фроим Грач сидел, расставив ноги, у конюшни и играл со своим внуком Аркадием. Мальчик этот три года назад выпал из могучей утробы дочери его Баськи. Дед протянул Аркадию палец, тот охватил его, повис и стал качаться на нем, как на перекладине.
– Ты – чепуха… – сказал внуку Фроим, глядя на него единственным глазом.
К ним подошла старуха с мохнатой бровью и в мужских штиблетах, перевязанных бечевкой.
– Фроим, – произнесла старуха, – я говорю тебе, что у этих людей нет человечества. У них нет слова. Они давят нас в погребах, как собак в яме. Они не дают нам говорить перед смертью… Их надо грызть зубами, этих людей, и вытаскивать из них сердце… Ты молчишь, Фроим, – прибавил Миша Яблочко, – ребята ждут, что ты перестанешь молчать…
Миша встал, переложил корзину из одной руки в другую и ушел, подняв черную бровь. Три девочки с заплетенными косицами встретились с ним на Алексеевской площади у церкви. Они прогуливались, взявшись за талии.
– Барышни, – сказал им Миша Яблочко, – я не угощу вас чаем с семитатью…[12 - бублик с кунжутом.]
Он насыпал им в карман платьиц семечек из стакана и исчез, обогнув церковь.
Фроим Грач остался один на своем дворе. Он сидел неподвижно, устремив в пространство свой единственный глаз. Мулы, отбитые у колониальных войск, хрустели сеном на конюшне, разъевшиеся матки паслись с жеребятами на усадьбе. В тени под каштаном кучера играли в карты и прихлебывали вино из черепков. Жаркие порывы ветра налетали на меловые стены, солнце в голубом своем оцепенении лилось над двором. Фроим встал и вышел на улицу. Он пересек Прохоровскую, чадившую в небо нищим тающим дымом своих кухонь, и площадь Толкучего рынка, где люди, завернутые в занавеси и гардины, продавали их друг другу. Он дошел до Екатерининской улицы, свернул у памятника императрице и вошел в здание Чека.
– Я Фроим, – сказал он коменданту, – мне надо до хозяина.
Председателем Чека в то время был Владислав Симен, приехавший из Москвы. Узнав о приходе Фроима, он вызвал следователя Борового, чтобы расспросить его о посетителе.
– Это грандиозный парень, – ответил Боровой, – тут вся Одесса пройдет перед вами…
И комендант ввел в кабинет старика в парусиновом балахоне, громадного, как здание, рыжего, с прикрытым глазом и изуродованной щекой.
– Хозяин, – сказал вошедший, – кого ты бьешь?.. Ты бьешь орлов. С кем ты останешься, хозяин, со смитьем?..
Симен сделал движение и приоткрыл ящик стола.
– Я пусто, – сказал тогда Фроим, – в руках у меня ничего нет, и в чеботах у меня ничего нет, и за воротами на улице я никого не оставил… Отпусти моих ребят, хозяин, скажи твою цену…
Старика усадили в кресло, ему принесли коньяку. Боровой вышел из комнаты и собрал у себя следователей и комиссаров, приехавших из Москвы.
– Я покажу вам одного парня, – сказал он, – это эпопея, второго нет…
И Боровой рассказал о том, что одноглазый Фроим, а не Беня Крик, был истинным главой сорока тысяч одесских воров. Игра его была скрыта, но все совершалось по планам старика – разгром фабрик и казначейства в Одессе, нападения на добровольцев и на союзные войска. Боровой ждал выхода старика, чтоб поговорить с ним. Фроим не появлялся. Соскучившийся следователь отправился на поиски. Он обошел все здание и под конец заглянул на черный двор. Фроим Грач лежал там распростертый под брезентом у стены, увитой плющом. Два красноармейца курили самодельные папиросы над его трупом.
– Чисто медведь, – сказал старший, увидев Борового, – это сила непомерная… Такого старика не убить, ему б износу не было… В нем десять зарядов сидит, а он все лезет…
Красноармеец раскраснелся, глаза его блестели, картуз сбился набок.
– Мелешь больше пуду, – прервал его другой конвоир, – помер и помер, все одинакие…
– Ан не все, – вскричал старший, – один просится, кричит, другой слова не скажет… Как это так можно, чтобы все одинакие…
– У меня они все одинакие, – упрямо повторил красноармеец помоложе, – все на одно лицо, я их не разбираю…
Боровой наклонился и отвернул брезент. Гримаса движения осталась на лице старика.
Следователь вернулся в свою комнату. Это был циркульный зал, обитый атласом. Там шло собрание о новых правилах делопроизводства. Симен делал доклад о непорядках, которые он застал, о неграмотных приговорах, о бессмысленном ведении протоколов следствия. Он настаивал на том, чтоб следователи, разбившись на группы, начали занятия с юрисконсультами и вели бы дела по формам и образцам, утвержденным Главным управлением в Москве. Боровой слушал, сидя в своем углу. Он сидел один, далеко от остальных. Симен подошел к нему после собрания и взял за руку.
– Ты сердишься на меня, я знаю, – сказал он, – но только мы власть, Саша, мы – государственная власть, это надо помнить…
– Я не сержусь, – ответил Боровой и отвернулся, – вы не одессит, вы не можете этого знать, тут целая история с этим стариком…
Они сели рядом, председатель, которому исполнилось двадцать три года, со своим подчиненным. Симен держал руку Борового в своей руке и пожимал ее.
– Ответь мне как чекист, – сказал он после молчания, – ответь мне как революционер – зачем нужен этот человек в будущем обществе?
Он занес ногу на подножку пролетки и вспомнил о Федьке.
– Это что за петрушка была?..
– Контуженый парень, – опустив глаза, сказал Бройдин, – и бывает невыдержанный… Но теперь ему объяснили, и он извиняется…
– Варит котелок, – сказал Майоров своему спутнику, отъезжая, – ворочает как надо…
Высокая лошадь несла к городу его и заведующего отделом благоустройства. По дороге им встретились старики и старухи, выгнанные из богадельни. Они прихрамывали, согнувшись под узелками, и плелись молча. Разбитные красноармейцы сгоняли их в ряды. Тележки парализованных скрипели. Свист удушья, покорное хрипение вырывалось из груди отставных канторов, свадебных шутов, поварих на обрезаниях и отслуживших приказчиков.
Солнце стояло высоко. Зной терзал груду лохмотьев, тащившихся по земле. Дорога их лежала по безрадостному, выжженному каменистому шоссе, мимо глинобитных хибарок, мимо полей, задавленных камнями, мимо раскрытых домов, разрушенных снарядами, и чумной горы. Невыразимо печальная дорога вела когда-то в Одессе от города к кладбищу.
Фроим Грач
В девятнадцатом году люди Бени Крика напали на арьергард добровольческих войск, вырезали офицеров и отбили часть обоза. В награду они потребовали у Одесского Совета три дня «мирного восстания», но разрешения не получили и вывезли поэтому мануфактуру из всех лавок, расположенных на Александровском проспекте. Деятельность их перенеслась потом на Общество взаимного кредита. Пропуская вперед клиентов, они входили в банк и обращались к артельщикам с просьбой положить в автомобиль, ждавший на улице, тюки с деньгами и ценностями. Прошел месяц, прежде чем их стали расстреливать. Тогда нашлись люди, сказавшие, что к делам поимки и арестов имеет отношение Арон Пескин, владелец мастерской. В чем состояла работа этой мастерской – установлено не было. На квартире Пескина стоял станок – длинная машина с покоробленным свинцовым валом; на полу валялись опилки и картон для переплетов.
Однажды в весеннее утро приятель Пескина Миша Яблочко постучался к нему в мастерскую.
– Арон, – сказал гость Пескину, – на улице дивная погода. В моем лице ты имеешь типа, который способен захватить с собой полбутылки с любительской закуской и поехать кататься по воздуху в Аркадию… Ты можешь смеяться над таким субъектом, но я любитель сбросить иногда все эти мысли с головы…
Пескин оделся и поехал с Мишей Яблочко на штейгере в Аркадию. Они катались до вечера; в сумерках Миша Яблочко вошел в комнату, где мадам Пескина мыла в корыте четырнадцатилетнюю свою дочь.
– Приветствую, – сказал Миша, снимая шляпу, – мы бесподобно провели время. Воздух – это что-то небывалое, но только надо наесться горохом, прежде чем говорить с вашим мужем… Он имеет надоедливый характер.
– Вы нашли кому рассказывать, – произнесла мадам Пескина, хватая дочь за волосы и мотая ее во все стороны. – Где он, этот авантюрист?
– Он отдыхает в палисаднике.
Миша снова приподнял шляпу, простился и уехал на штейгере. Мадам Пескина, не дождавшись мужа, пошла за ним в палисадник. Он сидел в шляпе панама, облокотившись о садовый стол, и скалил зубы.
– Авантюрист, – сказала ему мадам Пескина, – ты еще смеешься… У меня делается припадок от твоей дочери, она не хочет мыть голову… Пойди, имей беседу с твоей дочерью…
Пескин молчал и все скалил зубы.
– Бонабак, – начала мадам Пескина, заглянула мужу под шляпу панама и закричала.
Соседи сбежались на ее крик.
– Он не живой, – сказала им мадам Пескина. – Он мертвый.
Это была ошибка. Пескину в двух местах прострелили грудь и проломили череп, но он жил еще. Его отвезли в еврейскую больницу. Не кто другой, как доктор Зильберберг, сделал раненому операцию, но Пескину не посчастливилось – он умер под ножом. В ту же ночь Чека арестовала человека по прозвищу Грузин и его друга Колю Лапидуса. Один из них был кучером Миши Яблочко, другой ждал экипаж в Аркадии, на берегу моря у поворота, ведущего в степь. Их расстреляли после допроса, длившегося недолго. Один Миша Яблочко ушел из засады. След его потерялся, и несколько дней прошло прежде, чем на двор к Фроиму Грачу пришла старуха, торговавшая семечками. Она несла на руке корзину со своим товаром. Одна бровь ее мохнатым угольным кустом была поднята кверху, другая, едва намеченная, загибалась над веком. Фроим Грач сидел, расставив ноги, у конюшни и играл со своим внуком Аркадием. Мальчик этот три года назад выпал из могучей утробы дочери его Баськи. Дед протянул Аркадию палец, тот охватил его, повис и стал качаться на нем, как на перекладине.
– Ты – чепуха… – сказал внуку Фроим, глядя на него единственным глазом.
К ним подошла старуха с мохнатой бровью и в мужских штиблетах, перевязанных бечевкой.
– Фроим, – произнесла старуха, – я говорю тебе, что у этих людей нет человечества. У них нет слова. Они давят нас в погребах, как собак в яме. Они не дают нам говорить перед смертью… Их надо грызть зубами, этих людей, и вытаскивать из них сердце… Ты молчишь, Фроим, – прибавил Миша Яблочко, – ребята ждут, что ты перестанешь молчать…
Миша встал, переложил корзину из одной руки в другую и ушел, подняв черную бровь. Три девочки с заплетенными косицами встретились с ним на Алексеевской площади у церкви. Они прогуливались, взявшись за талии.
– Барышни, – сказал им Миша Яблочко, – я не угощу вас чаем с семитатью…[12 - бублик с кунжутом.]
Он насыпал им в карман платьиц семечек из стакана и исчез, обогнув церковь.
Фроим Грач остался один на своем дворе. Он сидел неподвижно, устремив в пространство свой единственный глаз. Мулы, отбитые у колониальных войск, хрустели сеном на конюшне, разъевшиеся матки паслись с жеребятами на усадьбе. В тени под каштаном кучера играли в карты и прихлебывали вино из черепков. Жаркие порывы ветра налетали на меловые стены, солнце в голубом своем оцепенении лилось над двором. Фроим встал и вышел на улицу. Он пересек Прохоровскую, чадившую в небо нищим тающим дымом своих кухонь, и площадь Толкучего рынка, где люди, завернутые в занавеси и гардины, продавали их друг другу. Он дошел до Екатерининской улицы, свернул у памятника императрице и вошел в здание Чека.
– Я Фроим, – сказал он коменданту, – мне надо до хозяина.
Председателем Чека в то время был Владислав Симен, приехавший из Москвы. Узнав о приходе Фроима, он вызвал следователя Борового, чтобы расспросить его о посетителе.
– Это грандиозный парень, – ответил Боровой, – тут вся Одесса пройдет перед вами…
И комендант ввел в кабинет старика в парусиновом балахоне, громадного, как здание, рыжего, с прикрытым глазом и изуродованной щекой.
– Хозяин, – сказал вошедший, – кого ты бьешь?.. Ты бьешь орлов. С кем ты останешься, хозяин, со смитьем?..
Симен сделал движение и приоткрыл ящик стола.
– Я пусто, – сказал тогда Фроим, – в руках у меня ничего нет, и в чеботах у меня ничего нет, и за воротами на улице я никого не оставил… Отпусти моих ребят, хозяин, скажи твою цену…
Старика усадили в кресло, ему принесли коньяку. Боровой вышел из комнаты и собрал у себя следователей и комиссаров, приехавших из Москвы.
– Я покажу вам одного парня, – сказал он, – это эпопея, второго нет…
И Боровой рассказал о том, что одноглазый Фроим, а не Беня Крик, был истинным главой сорока тысяч одесских воров. Игра его была скрыта, но все совершалось по планам старика – разгром фабрик и казначейства в Одессе, нападения на добровольцев и на союзные войска. Боровой ждал выхода старика, чтоб поговорить с ним. Фроим не появлялся. Соскучившийся следователь отправился на поиски. Он обошел все здание и под конец заглянул на черный двор. Фроим Грач лежал там распростертый под брезентом у стены, увитой плющом. Два красноармейца курили самодельные папиросы над его трупом.
– Чисто медведь, – сказал старший, увидев Борового, – это сила непомерная… Такого старика не убить, ему б износу не было… В нем десять зарядов сидит, а он все лезет…
Красноармеец раскраснелся, глаза его блестели, картуз сбился набок.
– Мелешь больше пуду, – прервал его другой конвоир, – помер и помер, все одинакие…
– Ан не все, – вскричал старший, – один просится, кричит, другой слова не скажет… Как это так можно, чтобы все одинакие…
– У меня они все одинакие, – упрямо повторил красноармеец помоложе, – все на одно лицо, я их не разбираю…
Боровой наклонился и отвернул брезент. Гримаса движения осталась на лице старика.
Следователь вернулся в свою комнату. Это был циркульный зал, обитый атласом. Там шло собрание о новых правилах делопроизводства. Симен делал доклад о непорядках, которые он застал, о неграмотных приговорах, о бессмысленном ведении протоколов следствия. Он настаивал на том, чтоб следователи, разбившись на группы, начали занятия с юрисконсультами и вели бы дела по формам и образцам, утвержденным Главным управлением в Москве. Боровой слушал, сидя в своем углу. Он сидел один, далеко от остальных. Симен подошел к нему после собрания и взял за руку.
– Ты сердишься на меня, я знаю, – сказал он, – но только мы власть, Саша, мы – государственная власть, это надо помнить…
– Я не сержусь, – ответил Боровой и отвернулся, – вы не одессит, вы не можете этого знать, тут целая история с этим стариком…
Они сели рядом, председатель, которому исполнилось двадцать три года, со своим подчиненным. Симен держал руку Борового в своей руке и пожимал ее.
– Ответь мне как чекист, – сказал он после молчания, – ответь мне как революционер – зачем нужен этот человек в будущем обществе?