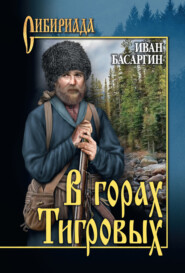По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Распутье
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Бережнов не держал невестку, которая ненавидела его. Ушли. Все видели, как навьючил на кобылу свой скарб Алексей Сонин, приторочил к седлу винтовки для бабы Кати и Саломки, третью взял сам, тронул коня и пошел в сторону Сихотэ-Алинского перевала. Кто-то вздохнул и сказал:
– Он-то бы черт с ним, а вот Катю-то жалко. Многие помрут без ее догляда. Журавлиха тоже лекарка, но никудышная.
Ушли в осень, ушли в неизвестность.
Снова взял власть в свои руки Бережнов, кого надо, приструнил. Мартюшеву сказал, что если он не оставит худое дело, то его он просто прикажет убить в тайге, а нет, то дома отравит. Исаку Лагутину и Мефодию Журавлёву, хоть и жаль было дружков, для поучения всыпал по двадцать розог, отлучили на месяц от братии, наложили епитимью: поклоны, не спать с бабой и пост – вода и хлеб, – дабы дух быстрее смирился.
Выполнили всё, как приказал Бережнов. И он снова воспрянул духом, укреплял по своим деревням дружины, создавал подобные и в тех деревнях, где ему верили, где его поддерживали мирские. Кузнецову через Красильникова и Селедкина дал наказ, чтобы в эти долины носа не показывали – будут биты. Всё.
Кажется, всё, но нет, Бережнов понимал всю шаткость своей власти. Понимал и то, что братия, даже его братия, лишь отступила, затаилась, а вот когда снова выступит, этого знать не мог. Видел, что люди мало верят в его затею – таежную пустынь. Но молчали.
А тут еще травили душу эти надрывные письма от Груни: «Устинушка, дружок милый! Который раз я шлю тебе низкий поклон, но всё попусту. То ли нет тебя в живых, то ли мои письмена не доходят до твоих рук. Кланяются тебе мои подружки-каторжанки…
О, знай ты, как мы тут живем, то не раз бы дрогнуло у тебя сердце! И порют нас, и секут нас наши же каторжанки-палачихи. В прошлом году бежала я с Бодайбо. Еще раз судили, добавили пять лет. Теперь буду на каторге пятнадцать лет. Не жди меня. Я уже давно не твоя, а жена каторги. Ни жизни, ни мечты. Один стон и крик. Зачерствела я, задубела. В сердце ни любви, ни жалости. Вчера задушили в камере каторжанку-доносчицу. Прощай!..»
И так письмо за письмом, где Груня рассказывала о себе, о своей страшной жизни, а иногда обращалась и к отцу Устина:
«… Я часто думаю, умом прикидываю, может ли жить на земле такой человек, как вы… Пришла к мысли, что может. Ведь жил же Безродный, убивал людей из винтовки, страшный и злой был человек. Вы это делаете без выстрелов… Но не знаю, кто из вас страшнее. Думаю, что оба страшны. Хотя там смерть, а здесь медленное умирание. Есть ли в этом разница? Кажется, нет. Вы у меня отняли душу, человечность, сделали меня зверем. Смотрю я на своих товарок: копаются они во вшивом белье, спорят, ругаются и по делу, и без дела. И тоже все стали страшны. Вчера подруга убила подругу. Тяпнула по голове поленом, а та и дух испустила. Я сижу и завидую убитой. У нее уже всё позади: отчаяние, муки душевные, телесные. Не страшусь смерти. Духовно мы все мертвы. А разве можно жить без души? Подумайте!
Вы боитесь, что я отобью от вас Устина? Нет и нет. Я стала грязной черной бабой. Сама себе противна. А Устин – светлый родничок, и мои уста не посмеют его опоганить. Пишу я ему, потому что не с кем словом перемолвиться. Но я ни разу не написала, что люблю его, мол, жди и прочее. Нет и нет. Устин для меня потерян навсегда… Любовь к нему загасла, как только я выстрелила в Баулина, стала убийцей. Еще хотела верить, что люблю. Но всё напрасно. Зря душу рвала…»
И вот последнее письмо: «Господин Бережнов, простите, что докучаю вам. Больше некому. Прослышала я от наших, что Устин на войне. Жив ли? Пишу с Сахалина. Наше начальство сменило гнев на милость, выслало нас на вечное поселение в город Александровск. Зачем? Вот об этом-то хочу рассказать.
Прибыли мы на Сахалин – остров стона и слез. Выгрузили нас с парохода и поставили рядами, как ставят кобылиц на ярмарке. Пошло по рядам тюремное начальство. Супротив меня остановился начальник тюрьмы. Этакий сивый старик. Глянул раз, два, хмыкнул. Открыл рот, в зубы заглянул, за сиськи поцапал. Отвернулся, не пришлась. Одна сиська оказалась больше другой. Выбрал двух курносеньких и толстеньких баб, будто бы для работы по дому. Вторым заходом пошли купцы, тоже из бывших каторжан. На меня налетел рыжий детина, как ворон на падаль. Этот даже в зубы не стал смотреть, за сиськи цапать, а сгреб и поволок домой. По нраву пришлась. Потом я узнала, что этот купец был бывшим палачом тюрьмы, коий сек и вешал нашу братию. Здесь все бывшие. Теперь я законная жена купца-палача Смулина. Человек он знатный, ладно обворовывает каторжан. От него даже собаки с ревом убегают в подворотни, а люди на колени падают и тоже спешат скрыться с глаз.
Этот палачина нежно любит меня, сам себе портки стирает, а я, как барыня, хожу по базарам, магазинам, тычу в рожи жуликам базарным не просто рукой, а зонтиком японским.
Когда-никогда хохочу до слез над собой и над своей судьбой. От одного палача спас Черный Дьявол, попала в руки другому. Часто думаю: не попадись вы злым роком на моей тропе, не встреть я Устина, который с побратимами спас меня от Тарабанова, что бы было со мной?..
Теперь я жена палача, от коего шарахаются люди и собаки. А потом хотела вам напомнить о тех деньгах, что вы украли у меня. Не забыли вы о них?»
Бережнов ответил: «Не забыл. Лежат за божничкой. Когда прикажете вернуть – верну. Бережнов».
Трудный и непонятный человек Степан Бережнов. И чем дальше, тем больше его не понимают люди. Пример тому пятнадцатый год: наводнение, голод. Бережнов открыл свои амбары, раздал хлеб беднякам и голодающим, ни с тех, ни с других копейки не взял, своим – ни зернышка. Своей властью приказал открыть общественный амбар, который принадлежал членам братии, и семенное зерно раздать беднякам. Когда Переселенческое управление выделило зерно для пострадавших, он первый поехал в извоз. Сотни пудов хорошей пшеницы из Спасска вывез, тоже за спаси Христос.
А те же бедняки, те же мужики начали поговаривать, мол, это Бережнов делает ради того, чтобы в случае выборов голосовать за него.
Хомин – тот понятен. Он продавал хлеб втридорога. У него тоже были запасы хлеба лет на десять, если кормить только свою семью. Продал до зернышка, оставил семью без хлеба. На репе проживут. От неё, как он их уверяет, сила и здоровье.
У многих бедняков пали лошади. Бережнов всех своих коней, что паслись на выгонах, послал пахать им пашни. Это уже шестнадцатый год. Хомин и Вальков на пахоте сотни людей вогнали в долг неоплатный. Бережнов никого не сделал должником. А когда пришло время выбирать нового старшину, то он отказался. Снова избрали Мартюшева.
Добро и зло уживались в Бережнове.
В прошлую осень были убиты манзы на тропе. Пятнадцать человек кто-то расстрелял в упор. Сонин и Арсё доказали, что это дело рук Хомина и Мартюшева. Нашли гильзы от винтовки Мартюшева – она чуть раздувала патронник, и берданочный патрон от хоминского ружья – у того тоже была отметина на гильзе (в патроннике была ржавчина).
Бережнов не отрицал причастность этих двух к делу убийства манз, но ответил на все доводы:
– Убиты манзы. Худо. Но крик поднимать не след. Придет срок, мы и с этими сделаем, что сделали с Тарабановым – моление и смерть.
– Но они еще будут убивать! – возмутился Лагутин.
– Будут. Свое найдут. Манза, как ни говорите, – инородец. Потому молчок, ежли самим хочется жить.
Еще тогда Бережнов требовал изгнать из деревни Сонина, свата своего, как возмутителя спокойствия, который лезет не в свои дела.
Теперь Сонин ушел. Был слух, что он построил ладный дом, не на зиму или две, а на долгие годы на речке Павловке, назвал будущее селение Горянкой[50 - Горянка – авторский топоним, в реальности – хутор Лужки (ныне село Нижние Лужки Чугуевского района Приморского края). Река Павловка – до 1972 г. река Фудзин.]. Будто плюнул под ноги Бережнову Арсё и тоже ушел к Сонину. Зиму промыкался Мефодий Журавлёв, а к весне конями перевез свое хозяйство в Горянку. Сонин объявил войну Бережнову, прислал письмо, где писал, мол, кто появится в его владениях, тот будет тут же убит без суда и следствия. И выходило, что война была объявлена всей братии. Охотники перестали ходить в верховья Павловки, ведь заполошный нрав Сонина знал каждый, да и стрелять он умел.
В тайге объявились беглые каторжники, будто бы они бежали с Сахалина. Построили зимовье, добыли оружие и начали жить тайгой. Бережнов послал к тем беглецам своих наушников, они донесли, что каторжников пятеро, но всего три ружья. Рваны и косматы. Приказал их перестрелять. Красильников и Селедкин выполнили «божье» дело.
Поговаривали, что в поселении Сонина собираются большевики, которые готовятся учинить революцию, и что их поят и кормят Журавлёв и Сонин. Бережнов собрал свою дружину, задумал пойти в Горянку и разбить Сонина. Но все дружинники наотрез отказались идти воевать с Сониным; мол, хватит и того, что изгнали праведного мужика, оставили всю округу без лекарки, люди умирают, а лечить болящих некому.
Здесь Бережнов еще раз почувствовал, что его власть шатка. Согласился с дружинниками, чтобы позже прижать их.
Прошли слухи, будто Зиновий Хомин ушел из банды и готовит других, чтобы напасть на Ивайловку, убить отца, забрать его богатство. Но это были лишь слухи. Зиновия видели вместе с Кузнецовым. Хомин за голову сына, которого ославил дезертиром и предателем, прибавил сумму, обещал выплатить две тысячи рублей. Но Хомину не верили, требовали деньги вперед. Хомин же не верил охотникам за черепами.
А окна плакали осенью. Гудел ветер. Бережнов думал, Бережнов искал брода в этой коловерти, но видел, что его нет и не будет. Впереди война, и война народная, которая, как половодье, затопит всю тайгу, сметет всех заполошных и инакомыслящих, оставит тех, кто найдет верный путь в том огне.
Но пока в деревне тишина, деревню мочалит дождь. Пробежит баба, накрыв голову мешком, прошлепает босый мальчонка – и снова безлюдье. Все сидят по домам, у каждого свой настрой, свои думы. А за всем этим растерянность и безнадежье перед будущим. Дорого бы дал Бережнов, чтобы узнать будущее, узнать думы людские. Но это никому не дано…
4
В тайге мокреть, промозглость. Изюбры, косули, кабарожки, кабаны замерли под деревьями и тоже мокнут. Ни прилечь, ни разогреться быстрым бегом. Холодно и голодно тигренку. Один. Хватит ходить за матерью, тигрица всё, что знала сама, передала тигрятам. А случится бескормица, ночами будут ходить к людям и воровать у них коров, коней, собак. Но при этом надо быть очень осторожными, бояться человека с железной палкой, своры собак, когда за ними идет человек. Учила обходить больших медведей-шатунов. Остальных же брать, есть, не бояться.
По лезвию сопки трусили волки. Они были сыты, мышковали, теперь спешили уйти от непогоды в свое логово. Их было шестеро. Этих волков вел Черный Дьявол. Вел уже новое племя. Те волчата давно ушли, лишь светло-серый волк остался при стае. Он давно покорился Черному Дьяволу, но при этом ждал своего часа. Должен настать тот час, когда он порвет горло Черному Дьяволу, припомнив все обиды и унижения.
Тигренок затаился за выскорью. Ветер дул от него, волки не должны учуять его. Черный Дьявол поравнялся с тигром. Тигр прыгнул. Прыжок был точен. Пес оказался в лапах страшного зверя. И, будь на месте Черного Дьявола другой волк, он неминуемо погиб бы. Потеряв голову от страха, не оказал бы сопротивления тигру. Но это был Дьявол. Он вывернулся из когтистых лап, еще нашел в себе силы рвануть тигренка за пах, разрезал клыками, как ножом, живот так, что вывалились внутренности. Отскочил в сторону и упал, истекая кровью. Час для светло-серого волка настал. Метнулся на Дьявола, чтобы впиться мощной пастью в его горло. Но за отца заступились волчата. Они дружно навалились на противника, смяли его, отбросили в сторону, начали рвать острыми клыками кожу. Волк покатился по жухлой траве, вскочил и побежал. Его никто не преследовал.
Волчица, которая раньше боялась даже свежих следов тигров, не обращая внимания на возню волчат, бросилась на тигра. Схватила за кишки, довершая начатое Дьяволом дело. Тигренок бросился следом за волком, путался в своих же кишках лапами.
Черного Дьявола окружили волчица и волчата, начали слизывать с его кожи кровь, зализывать раны. Подталкивали мордами, чтобы Дьявол встал и шёл в логово.
Тигренок забился под валежину. Он погибал. Долго будет умирать, если никто не поспешит оборвать ему жизнь.
Прилетели сороки, начали трещать, звать соседей, чтобы и они посмотрели на умирающего тигра. За ними прилетел ворон. Сел на дерево и прокричал: «Каррык! Каррык!» Дал кому-то знать, что видит хорошую добычу.
И он пришел, пришел огромный, бурый, косолапо переставляя ноги. Медведь не был голоден, желудей и кедровых шишек хватало. Но разве можно пройти мимо умирающего, оставить добычу мелким зверькам? Притом тигра, которого этот гигант не замедлил бы и здорового-то порвать. Он тигров ненавидел.
Медведь не спешил. Он дважды обошёл валежину, где затаился тигр, дыбя шерсть на загривке, чмокая губами, встал в отдалении. Он сразу понял, что тигрёнок обречён, это было видно по заполошному страху в его глазах. Не спешил нападать, фыркал, тянул губы, ворчал. И вот нацелился. Боком, всей своей мощью налетел на тигрёнка, отбросил ударом груди валежины, навалился на умирающего, но еще сильного зверя. Начал ломать, как кутёнка. Рев качнул сопки. И те, кто сиротливо дремали под елями, и те, кто шли на охоту, враз вздрогнули, насторожились и очертя голову бросились прочь от этого жуткого рева.
Тигренок не рвал медведя, только слабо кусал. С перебитым позвоночником еще пытался сопротивляться. Со стоном упал. Медведь придушил тигренка. Косолапо отошел в сторону, слизывая с морды кровь. Стало тихо-тихо, лишь капли хлюпали по листве – то плакали вершины деревьев холодным дождем. Моросило небо.
Шло время. Шла своим размеренным шагом таежная жизнь. Трудная, где каждый шаг может быть последним, каждый день – последним днем. То, что зверь убивает зверя – это закон природы, право сильного. И здесь, над этой тайгой, черным хвостом промелькнули миллионолетия, в которые многие народы и племена не трогали тигров, волков, считая их своими предками. Не трогали, и в тайге не делалось меньше изюбров, кабанов и другого зверья. Но вот пришли другие люди, которые не говорят, что они произошли от тигров или волков, а говорят, что их создал бог. Эти люди принесли не стрелы и копья, а дальнобойные винтовки. И сразу всё нарушилось в тайге. За полстолетия были перебиты почти все красные волки. Реже стали попадаться тигры, ушли в глухие леса барсы, убегали от людей рыси. Они сразу же отказались от единоборства с людьми, предпочли жизнь вдали от людского глаза, чего не захотели сделать красные волки. Серые волки еще будут жить, очищать тайгу от слабого и хилого. Но люди так или иначе разомкнут цепь, замыкающую природную систему. Погубят себя и тайгожителей…
– Он-то бы черт с ним, а вот Катю-то жалко. Многие помрут без ее догляда. Журавлиха тоже лекарка, но никудышная.
Ушли в осень, ушли в неизвестность.
Снова взял власть в свои руки Бережнов, кого надо, приструнил. Мартюшеву сказал, что если он не оставит худое дело, то его он просто прикажет убить в тайге, а нет, то дома отравит. Исаку Лагутину и Мефодию Журавлёву, хоть и жаль было дружков, для поучения всыпал по двадцать розог, отлучили на месяц от братии, наложили епитимью: поклоны, не спать с бабой и пост – вода и хлеб, – дабы дух быстрее смирился.
Выполнили всё, как приказал Бережнов. И он снова воспрянул духом, укреплял по своим деревням дружины, создавал подобные и в тех деревнях, где ему верили, где его поддерживали мирские. Кузнецову через Красильникова и Селедкина дал наказ, чтобы в эти долины носа не показывали – будут биты. Всё.
Кажется, всё, но нет, Бережнов понимал всю шаткость своей власти. Понимал и то, что братия, даже его братия, лишь отступила, затаилась, а вот когда снова выступит, этого знать не мог. Видел, что люди мало верят в его затею – таежную пустынь. Но молчали.
А тут еще травили душу эти надрывные письма от Груни: «Устинушка, дружок милый! Который раз я шлю тебе низкий поклон, но всё попусту. То ли нет тебя в живых, то ли мои письмена не доходят до твоих рук. Кланяются тебе мои подружки-каторжанки…
О, знай ты, как мы тут живем, то не раз бы дрогнуло у тебя сердце! И порют нас, и секут нас наши же каторжанки-палачихи. В прошлом году бежала я с Бодайбо. Еще раз судили, добавили пять лет. Теперь буду на каторге пятнадцать лет. Не жди меня. Я уже давно не твоя, а жена каторги. Ни жизни, ни мечты. Один стон и крик. Зачерствела я, задубела. В сердце ни любви, ни жалости. Вчера задушили в камере каторжанку-доносчицу. Прощай!..»
И так письмо за письмом, где Груня рассказывала о себе, о своей страшной жизни, а иногда обращалась и к отцу Устина:
«… Я часто думаю, умом прикидываю, может ли жить на земле такой человек, как вы… Пришла к мысли, что может. Ведь жил же Безродный, убивал людей из винтовки, страшный и злой был человек. Вы это делаете без выстрелов… Но не знаю, кто из вас страшнее. Думаю, что оба страшны. Хотя там смерть, а здесь медленное умирание. Есть ли в этом разница? Кажется, нет. Вы у меня отняли душу, человечность, сделали меня зверем. Смотрю я на своих товарок: копаются они во вшивом белье, спорят, ругаются и по делу, и без дела. И тоже все стали страшны. Вчера подруга убила подругу. Тяпнула по голове поленом, а та и дух испустила. Я сижу и завидую убитой. У нее уже всё позади: отчаяние, муки душевные, телесные. Не страшусь смерти. Духовно мы все мертвы. А разве можно жить без души? Подумайте!
Вы боитесь, что я отобью от вас Устина? Нет и нет. Я стала грязной черной бабой. Сама себе противна. А Устин – светлый родничок, и мои уста не посмеют его опоганить. Пишу я ему, потому что не с кем словом перемолвиться. Но я ни разу не написала, что люблю его, мол, жди и прочее. Нет и нет. Устин для меня потерян навсегда… Любовь к нему загасла, как только я выстрелила в Баулина, стала убийцей. Еще хотела верить, что люблю. Но всё напрасно. Зря душу рвала…»
И вот последнее письмо: «Господин Бережнов, простите, что докучаю вам. Больше некому. Прослышала я от наших, что Устин на войне. Жив ли? Пишу с Сахалина. Наше начальство сменило гнев на милость, выслало нас на вечное поселение в город Александровск. Зачем? Вот об этом-то хочу рассказать.
Прибыли мы на Сахалин – остров стона и слез. Выгрузили нас с парохода и поставили рядами, как ставят кобылиц на ярмарке. Пошло по рядам тюремное начальство. Супротив меня остановился начальник тюрьмы. Этакий сивый старик. Глянул раз, два, хмыкнул. Открыл рот, в зубы заглянул, за сиськи поцапал. Отвернулся, не пришлась. Одна сиська оказалась больше другой. Выбрал двух курносеньких и толстеньких баб, будто бы для работы по дому. Вторым заходом пошли купцы, тоже из бывших каторжан. На меня налетел рыжий детина, как ворон на падаль. Этот даже в зубы не стал смотреть, за сиськи цапать, а сгреб и поволок домой. По нраву пришлась. Потом я узнала, что этот купец был бывшим палачом тюрьмы, коий сек и вешал нашу братию. Здесь все бывшие. Теперь я законная жена купца-палача Смулина. Человек он знатный, ладно обворовывает каторжан. От него даже собаки с ревом убегают в подворотни, а люди на колени падают и тоже спешат скрыться с глаз.
Этот палачина нежно любит меня, сам себе портки стирает, а я, как барыня, хожу по базарам, магазинам, тычу в рожи жуликам базарным не просто рукой, а зонтиком японским.
Когда-никогда хохочу до слез над собой и над своей судьбой. От одного палача спас Черный Дьявол, попала в руки другому. Часто думаю: не попадись вы злым роком на моей тропе, не встреть я Устина, который с побратимами спас меня от Тарабанова, что бы было со мной?..
Теперь я жена палача, от коего шарахаются люди и собаки. А потом хотела вам напомнить о тех деньгах, что вы украли у меня. Не забыли вы о них?»
Бережнов ответил: «Не забыл. Лежат за божничкой. Когда прикажете вернуть – верну. Бережнов».
Трудный и непонятный человек Степан Бережнов. И чем дальше, тем больше его не понимают люди. Пример тому пятнадцатый год: наводнение, голод. Бережнов открыл свои амбары, раздал хлеб беднякам и голодающим, ни с тех, ни с других копейки не взял, своим – ни зернышка. Своей властью приказал открыть общественный амбар, который принадлежал членам братии, и семенное зерно раздать беднякам. Когда Переселенческое управление выделило зерно для пострадавших, он первый поехал в извоз. Сотни пудов хорошей пшеницы из Спасска вывез, тоже за спаси Христос.
А те же бедняки, те же мужики начали поговаривать, мол, это Бережнов делает ради того, чтобы в случае выборов голосовать за него.
Хомин – тот понятен. Он продавал хлеб втридорога. У него тоже были запасы хлеба лет на десять, если кормить только свою семью. Продал до зернышка, оставил семью без хлеба. На репе проживут. От неё, как он их уверяет, сила и здоровье.
У многих бедняков пали лошади. Бережнов всех своих коней, что паслись на выгонах, послал пахать им пашни. Это уже шестнадцатый год. Хомин и Вальков на пахоте сотни людей вогнали в долг неоплатный. Бережнов никого не сделал должником. А когда пришло время выбирать нового старшину, то он отказался. Снова избрали Мартюшева.
Добро и зло уживались в Бережнове.
В прошлую осень были убиты манзы на тропе. Пятнадцать человек кто-то расстрелял в упор. Сонин и Арсё доказали, что это дело рук Хомина и Мартюшева. Нашли гильзы от винтовки Мартюшева – она чуть раздувала патронник, и берданочный патрон от хоминского ружья – у того тоже была отметина на гильзе (в патроннике была ржавчина).
Бережнов не отрицал причастность этих двух к делу убийства манз, но ответил на все доводы:
– Убиты манзы. Худо. Но крик поднимать не след. Придет срок, мы и с этими сделаем, что сделали с Тарабановым – моление и смерть.
– Но они еще будут убивать! – возмутился Лагутин.
– Будут. Свое найдут. Манза, как ни говорите, – инородец. Потому молчок, ежли самим хочется жить.
Еще тогда Бережнов требовал изгнать из деревни Сонина, свата своего, как возмутителя спокойствия, который лезет не в свои дела.
Теперь Сонин ушел. Был слух, что он построил ладный дом, не на зиму или две, а на долгие годы на речке Павловке, назвал будущее селение Горянкой[50 - Горянка – авторский топоним, в реальности – хутор Лужки (ныне село Нижние Лужки Чугуевского района Приморского края). Река Павловка – до 1972 г. река Фудзин.]. Будто плюнул под ноги Бережнову Арсё и тоже ушел к Сонину. Зиму промыкался Мефодий Журавлёв, а к весне конями перевез свое хозяйство в Горянку. Сонин объявил войну Бережнову, прислал письмо, где писал, мол, кто появится в его владениях, тот будет тут же убит без суда и следствия. И выходило, что война была объявлена всей братии. Охотники перестали ходить в верховья Павловки, ведь заполошный нрав Сонина знал каждый, да и стрелять он умел.
В тайге объявились беглые каторжники, будто бы они бежали с Сахалина. Построили зимовье, добыли оружие и начали жить тайгой. Бережнов послал к тем беглецам своих наушников, они донесли, что каторжников пятеро, но всего три ружья. Рваны и косматы. Приказал их перестрелять. Красильников и Селедкин выполнили «божье» дело.
Поговаривали, что в поселении Сонина собираются большевики, которые готовятся учинить революцию, и что их поят и кормят Журавлёв и Сонин. Бережнов собрал свою дружину, задумал пойти в Горянку и разбить Сонина. Но все дружинники наотрез отказались идти воевать с Сониным; мол, хватит и того, что изгнали праведного мужика, оставили всю округу без лекарки, люди умирают, а лечить болящих некому.
Здесь Бережнов еще раз почувствовал, что его власть шатка. Согласился с дружинниками, чтобы позже прижать их.
Прошли слухи, будто Зиновий Хомин ушел из банды и готовит других, чтобы напасть на Ивайловку, убить отца, забрать его богатство. Но это были лишь слухи. Зиновия видели вместе с Кузнецовым. Хомин за голову сына, которого ославил дезертиром и предателем, прибавил сумму, обещал выплатить две тысячи рублей. Но Хомину не верили, требовали деньги вперед. Хомин же не верил охотникам за черепами.
А окна плакали осенью. Гудел ветер. Бережнов думал, Бережнов искал брода в этой коловерти, но видел, что его нет и не будет. Впереди война, и война народная, которая, как половодье, затопит всю тайгу, сметет всех заполошных и инакомыслящих, оставит тех, кто найдет верный путь в том огне.
Но пока в деревне тишина, деревню мочалит дождь. Пробежит баба, накрыв голову мешком, прошлепает босый мальчонка – и снова безлюдье. Все сидят по домам, у каждого свой настрой, свои думы. А за всем этим растерянность и безнадежье перед будущим. Дорого бы дал Бережнов, чтобы узнать будущее, узнать думы людские. Но это никому не дано…
4
В тайге мокреть, промозглость. Изюбры, косули, кабарожки, кабаны замерли под деревьями и тоже мокнут. Ни прилечь, ни разогреться быстрым бегом. Холодно и голодно тигренку. Один. Хватит ходить за матерью, тигрица всё, что знала сама, передала тигрятам. А случится бескормица, ночами будут ходить к людям и воровать у них коров, коней, собак. Но при этом надо быть очень осторожными, бояться человека с железной палкой, своры собак, когда за ними идет человек. Учила обходить больших медведей-шатунов. Остальных же брать, есть, не бояться.
По лезвию сопки трусили волки. Они были сыты, мышковали, теперь спешили уйти от непогоды в свое логово. Их было шестеро. Этих волков вел Черный Дьявол. Вел уже новое племя. Те волчата давно ушли, лишь светло-серый волк остался при стае. Он давно покорился Черному Дьяволу, но при этом ждал своего часа. Должен настать тот час, когда он порвет горло Черному Дьяволу, припомнив все обиды и унижения.
Тигренок затаился за выскорью. Ветер дул от него, волки не должны учуять его. Черный Дьявол поравнялся с тигром. Тигр прыгнул. Прыжок был точен. Пес оказался в лапах страшного зверя. И, будь на месте Черного Дьявола другой волк, он неминуемо погиб бы. Потеряв голову от страха, не оказал бы сопротивления тигру. Но это был Дьявол. Он вывернулся из когтистых лап, еще нашел в себе силы рвануть тигренка за пах, разрезал клыками, как ножом, живот так, что вывалились внутренности. Отскочил в сторону и упал, истекая кровью. Час для светло-серого волка настал. Метнулся на Дьявола, чтобы впиться мощной пастью в его горло. Но за отца заступились волчата. Они дружно навалились на противника, смяли его, отбросили в сторону, начали рвать острыми клыками кожу. Волк покатился по жухлой траве, вскочил и побежал. Его никто не преследовал.
Волчица, которая раньше боялась даже свежих следов тигров, не обращая внимания на возню волчат, бросилась на тигра. Схватила за кишки, довершая начатое Дьяволом дело. Тигренок бросился следом за волком, путался в своих же кишках лапами.
Черного Дьявола окружили волчица и волчата, начали слизывать с его кожи кровь, зализывать раны. Подталкивали мордами, чтобы Дьявол встал и шёл в логово.
Тигренок забился под валежину. Он погибал. Долго будет умирать, если никто не поспешит оборвать ему жизнь.
Прилетели сороки, начали трещать, звать соседей, чтобы и они посмотрели на умирающего тигра. За ними прилетел ворон. Сел на дерево и прокричал: «Каррык! Каррык!» Дал кому-то знать, что видит хорошую добычу.
И он пришел, пришел огромный, бурый, косолапо переставляя ноги. Медведь не был голоден, желудей и кедровых шишек хватало. Но разве можно пройти мимо умирающего, оставить добычу мелким зверькам? Притом тигра, которого этот гигант не замедлил бы и здорового-то порвать. Он тигров ненавидел.
Медведь не спешил. Он дважды обошёл валежину, где затаился тигр, дыбя шерсть на загривке, чмокая губами, встал в отдалении. Он сразу понял, что тигрёнок обречён, это было видно по заполошному страху в его глазах. Не спешил нападать, фыркал, тянул губы, ворчал. И вот нацелился. Боком, всей своей мощью налетел на тигрёнка, отбросил ударом груди валежины, навалился на умирающего, но еще сильного зверя. Начал ломать, как кутёнка. Рев качнул сопки. И те, кто сиротливо дремали под елями, и те, кто шли на охоту, враз вздрогнули, насторожились и очертя голову бросились прочь от этого жуткого рева.
Тигренок не рвал медведя, только слабо кусал. С перебитым позвоночником еще пытался сопротивляться. Со стоном упал. Медведь придушил тигренка. Косолапо отошел в сторону, слизывая с морды кровь. Стало тихо-тихо, лишь капли хлюпали по листве – то плакали вершины деревьев холодным дождем. Моросило небо.
Шло время. Шла своим размеренным шагом таежная жизнь. Трудная, где каждый шаг может быть последним, каждый день – последним днем. То, что зверь убивает зверя – это закон природы, право сильного. И здесь, над этой тайгой, черным хвостом промелькнули миллионолетия, в которые многие народы и племена не трогали тигров, волков, считая их своими предками. Не трогали, и в тайге не делалось меньше изюбров, кабанов и другого зверья. Но вот пришли другие люди, которые не говорят, что они произошли от тигров или волков, а говорят, что их создал бог. Эти люди принесли не стрелы и копья, а дальнобойные винтовки. И сразу всё нарушилось в тайге. За полстолетия были перебиты почти все красные волки. Реже стали попадаться тигры, ушли в глухие леса барсы, убегали от людей рыси. Они сразу же отказались от единоборства с людьми, предпочли жизнь вдали от людского глаза, чего не захотели сделать красные волки. Серые волки еще будут жить, очищать тайгу от слабого и хилого. Но люди так или иначе разомкнут цепь, замыкающую природную систему. Погубят себя и тайгожителей…
Другие электронные книги автора Иван Ульянович Басаргин
В горах Тигровых




 4.67
4.67