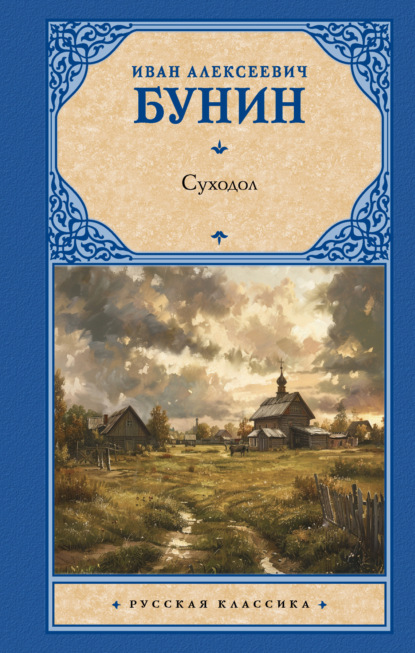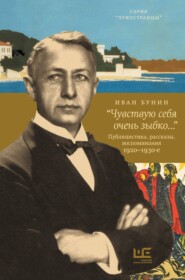По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Суходол
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И, уже покончив с общим, переходит к частному:
– Мы туда под Сретенье поехали… У меня тогда четыре лошади было… Прокорми-ка их!.. Ну, поехали туда порожняком… Оттуда пшеницу наклали… Доправили все честь честью, стали барыши считать… ан только себя самих да лошадей оправдали…
– А француза помнишь?
Таганок думает.
– Француза-то? – спокойно говорит он. – Это какой в Москву приходил? Нет, не помню…
– А Москва при тебе велика, хороша была?
– Большая… Приедем, бывало, в нее… Поставят нас на Болоте в ряд… Мы и стоим… Как хлаг спустят, может, значит, купец, какой купил что, подойтить, взять свой товар… Ну, подойдет, глянет и отправит его: либо на Воробьиные горы, либо еще куда…
Учитель нервно курит, хмурится: нет, ничего путного не выходит из его расспросов!
Он щиплет концы усов, собирается с мыслями, стараясь представить себе невозможное, – картину одной из самых долгих человеческих жизней, картину целого столетия; он силится войти в душу и тело этого необыкновенного человека – и никак не может примириться с тем, что говорит необыкновенный человек очень обыкновенно, даже чересчур обыкновенно, рассказывает же только пустяки. «Систематически надо, систематически, – думает учитель, – с самого начала надо начать…» Но краткие, трогательные и пустяковые ответы Таганка сбивают с толку, вызывают беспокойство, лишают охоты расспрашивать. «Рано ты начал помнить себя?» – «А бог его знает, не знаю… Ведь мы, – слабо улыбается дед, – народ темный, в лесу живем, пням молимся… Допрежь тут везде леса были…» – «Какие леса?» – «А всякие. Дуб, например, сосна… Разбойники водились…» – «Разбойники? Ты историю какую-нибудь о них помнишь?» – «Нет, истории, слава богу, никакой не было…» – «Ну, а село какое было? Меньше теперешнего?» – «Все такая же… Церковь только на старом кладбище стояла, а не возле училища… Я четырех попов пережил…» Но каковы были эти попы, похожи ли на теперешних, этого Таганок не умеет рассказать. Но, может быть, он хорошо помнит господ, князей Козельских, и о них расскажет что-нибудь путное? – Помнить-то помнит… Но узнаёт учитель только то, что было три генерала: Семен Милыч, Мил Семеныч и Григорий Милыч; что господа они были хорошие, что особенно «лихим» нравом отличался Мил Семеныч…
– Тебя пороли? – спрашивает учитель.
– Нет, Бог не привел, – отвечает Таганок. – Однова только. Да еще раз в шею дал мне Мил Семеныч… На постройке… Я бревно не тое ухватил… Вот продавать – продавали… Возили… Осерчал барин на нас, на ребят… Ну, и отправил одинцать голов… В энтот, в Белев-то… Ну, привезли нас на базар, постановили друг с дружкой… Подошел бурмистр селезневский… Мы было дюже оробели, да не сошлось чтой-то дело… А за меня хорошо – полтораста пять давали…
Солнце уже скрылось за далеким полем; гуще и свежее пахнут конопляники в вечерней тени, роса пала на огороды. Почти черное, гробовое лицо Таганка стало еще безжизненнее, глаза совсем остекленели. Ему холодно, он кутается в полушубок, оправляет полы, глубже надвигает шапку и засовывает руки в рукава.
– Покойник Семен Милыч был крут! А помер он, заступил его место Мил Семеныч, – стало и совсем никуда… Молили мужики, чтобы ему Бог смерти дал… А я, бывало, скажу: «Напрасно вы его сбываете. Не сбывайте, – хуже будет…» Так оно и вышло… Да…
Таганок отдыхает; потом опять заводит медленную речь:
– Да… А как помер Мил Семеныч, привезли гроб в засмоленном рундуке… Скрозь рундук дрянь, кровь пролила… Нехорошо помер, без болезни, тело не выболело… Как, значит, кому назначено…
Учитель с трудом дослушивает этот тяжкий рассказ и поднимается.
– Ну, прощай, до свидания, дед, – говорит он. – Дай Бог тебе еще пожить.
Таганок кротко поднимает брови.
– Пожить-то? – отвечает он. – Да ведь и так уж сто с восьмеркой…
И, помолчав, опускает голову.
– Но ведь хочется небось?
– А бог ее знает…
– Но позволь, ты-то сам как чувствуешь?
– Да что ж чуствовать? Тут чуствовать нечего… Чуствуй, не чуствуй…
– Позволь: ну а если бы тебе, например, предложили пять лет прожить или год, – что ты выбрал?
Таганок слабо улыбается, глядя в землю:
– А господь ее знает…
И учитель тупо, долго глядит на него. Потом решительно пожимает его твердую ледяную руку и уходит.
Он уходит за деревню, в поле, и долго шагает в полутьме по мягкой пыльной дороге.
Возвращается уже в сумерки. Не спеша идет по улице. Огней нет, избы темны и тихи. Все спят. Пахнет жильем – как-то особенно, тепло, по-ночному. Сухо трюкают осторожные сверчки. Вот опять изба Глеба. Она вымазана известкой, слабо белеет. Стекла ее сини от вечера, в них еще слабо отражается небо. Внизу, по земле, реет какой-то еле заметный отсвет, отчего изба и полушубок кого-то сидящего на голыше возле нее странно выделяются. Кто это? Неужели Таганок?
– Дедушка, еще здравствуй, – негромко говорит учитель, очень тронутый видом этого одинокого, чужого всему миру человека, пережившего и всех сверстников своих и всех детей их.
– Кто это? – тихо откликается Таганок.
– Да я, учитель… Что же ты не спишь?
Таганок думает. Отвечает он теперь еще медленнее:
– Да какой наш сон… Древен я… А ночь эта – как медведь идет она на меня…
«Это не ночь, а смерть», – думает учитель; и, помолчав, спрашивает:
– Ну а как же? Пожил бы еще?
Тихо. Трюкают сверчки. На порог избы вышла дымчатая кошка, сбежала на землю – и стала невидима. Слабо белеет борода Таганка. Темного, гробового лица его не видно. Жив ли он?
Жив. Долго спустя он отзывается:
– Пожил бы… И пять годов одолел бы еще… Да за пять-то годов…
Он, видно, вспоминает сноху, свой шалаш, свою беспризорность, беспомощность. И легонько вздыхает:
– За пять-то годов вошь съест. А то пожил бы.
Ночной разговор
I
Небо было серебристо-звездно, поле за садом и гумном темнело ровно, на чистом горизонте четко чернела мельница с двумя рогами крыльев. Но звезды искрились, трепетали, часто прорезывали небо зеленоватыми полосками, сад шумел порывисто и уже по-осеннему, холодно. От мельницы, с пологой равнины, с опустевшего жнивья дул сильный ветер. Работники сытно поужинали, – был праздник, Успение, – и жадно накурились по дороге через сад на гумно. Накинув армяки сверх полушубков, они шли туда спать, стеречь хлебные вороха. За работниками, таща подушку, шел высокий гимназист и бежали три борзых белых собаки. На гумне, на свежем ветру, хорошо пахло мякиной, новой ржаной соломой. Все уютно улеглись в ней, в самом большом омете, поближе к ворохам и риге. Собаки повозились, пошуршали у ног и тоже успокоились.
Над головами лежавших слабо белел широкий, раздваивающийся дымно-прозрачными рукавами Млечный Путь, наполненный висящей в них мелкой звездной россыпью. В соломе было тепло и тихо. Но по лозняку, что темнел вдоль вала слева, то и дело тревожно шел и, разрастаясь, приближался глухим неприязненным шумом северо-восточный ветер. Тогда до лиц, до рук доходило прохладное дуновение вместе с дурным запахом из проходов между ометами. А по небосклону, за неправильными черными пятнами волновавшегося лозняка, остро мелькали, вспыхивали льдистые алмазы, разноцветными огнями загоралась Капелла.
Улегшись, позевали и закрыли глаза. Ветер дремотно шелестел торчавшей над головами колючей соломой. Но дошла до лиц прохлада – и все почувствовали, что спать еще не хочется, – выспались после обеда. Только один гимназист изнемогал от сладкой жажды сна. Но ему заснуть не давали блохи. Он стал чесаться, раздумался о девках, о вдове, с которой он, при помощи работника Пашки, потерял в это лето невинность, и тоже разгулялся.
Это был худой, неуклюжий подросток с нежным цветом лица, такого белого, что даже загар не брал его, с синими глазами, с большим кадыком. Он все лето не разлучался с работниками, – возил сперва навоз, потом снопы, оправлял ометы, курил махорку, подражал мужикам в говоре и в грубости с девками, которые дружески поднимали его на смех, встречали криками: «Веретёнкин, Веретёнкин!» – дурацким прозвищем, придуманным подавальщиком в молотилку Иваном. Он ночевал то на гумне, то в конюшне, по неделям не менял белья и парусиновой одежды, не снимал дегтярных сапог, сбил в кровь ноги с непривычки к портянкам, оборвал все пуговицы на летней шинели, испачканной колесами и навозом…
– Совсем отбился от дому! – с ласковой грустью говорила о нем мать, восхищаясь даже его недостатками. – Конечно, поправится, окрепнет, но посмотрите, какая лохматая чушка, даже шеи не моет! – улыбаясь, говорила она гостям и теребила его мягкие каштановые лохмы, стараясь добраться до нежного завитка, кудрявившегося, как у девочки, на его затылке, на темной шее, отделявшейся от видного под косовороткой по-детски белого тела, от больших позвонков под тонкой гладкой кожей. А он угрюмо вывертывал голову из-под ее ласковой руки, хмурился, краснел. Он рос не по дням, а по часам и на ходу гнулся, задумчиво свистал, угловато вилял из стороны в сторону. Он еще ел липовый цвет и вишневый клей, носил, хотя уже тайком, в кармане парусиновых панталон рогульку для стрельбы по воробьям, но сгорел бы от стыда, если б это обнаружилось, и не выпускал рук из карманов. Еще зимой он играл с Лилей в краснокожих. Но весной, когда по всем улицам города текли и дрожали ослепительным блеском ручьи, когда в классах горели от солнца белые подоконники, солнцем был пронизан голубой дым в учительской и директорская кошка подстерегала первых зябликов в гимназическом саду, еще полном серебряного снега, – весной он вообразил, что влюбился в худенькую, маленькую, начитанную и серьезную гимназистку Юшкову, подружился с шестиклассником в очках Симашко и решил посвятить все каникулы самообразованию. А летом мечты о самообразовании были уже забыты, было принято новое решение – изучить народ, вскоре перешедшее в страстное увлечение мужиками.
Вечером на Успение гимназист был налит сном еще за ужином. К концу каждого дня, когда туманилась и на грудь падала голова, – от усталости, от разговоров с работниками, от роли взрослого, – возвращалось детство: хотелось поиграть с Лилей, помечтать перед сном о каких-нибудь дальних и неведомых странах, о необыкновенных проявлениях страсти и самопожертвования, о жизни Ливингстона, Беккера, а не мужиков Наумова и Нефедова, прочитать которых дано было Симашке честное слово; хотелось хоть одну ночь переночевать дома и не вскакивать до солнца, на холодной утренней заре, когда даже собаки так томно зевают и тянутся… Но вошла горничная, сказала, что работники уже пошли на гумно. Не слушая криков матери, гимназист накинул на плечи шинель с мотающимся хлястиком и картуз на голову, схватил из рук горничной подушку и в аллее нагнал работников. Он шел, шатаясь от дремоты, таща за угол подушку, и, как только довалился до омета, подлез под старую енотовую шубу, лежавшую там, так сейчас же и поплыл, понесся в сладкую черную тьму. Но огнем стали жечь мелкие собачьи блохи, стали переговариваться работники…
– Мы туда под Сретенье поехали… У меня тогда четыре лошади было… Прокорми-ка их!.. Ну, поехали туда порожняком… Оттуда пшеницу наклали… Доправили все честь честью, стали барыши считать… ан только себя самих да лошадей оправдали…
– А француза помнишь?
Таганок думает.
– Француза-то? – спокойно говорит он. – Это какой в Москву приходил? Нет, не помню…
– А Москва при тебе велика, хороша была?
– Большая… Приедем, бывало, в нее… Поставят нас на Болоте в ряд… Мы и стоим… Как хлаг спустят, может, значит, купец, какой купил что, подойтить, взять свой товар… Ну, подойдет, глянет и отправит его: либо на Воробьиные горы, либо еще куда…
Учитель нервно курит, хмурится: нет, ничего путного не выходит из его расспросов!
Он щиплет концы усов, собирается с мыслями, стараясь представить себе невозможное, – картину одной из самых долгих человеческих жизней, картину целого столетия; он силится войти в душу и тело этого необыкновенного человека – и никак не может примириться с тем, что говорит необыкновенный человек очень обыкновенно, даже чересчур обыкновенно, рассказывает же только пустяки. «Систематически надо, систематически, – думает учитель, – с самого начала надо начать…» Но краткие, трогательные и пустяковые ответы Таганка сбивают с толку, вызывают беспокойство, лишают охоты расспрашивать. «Рано ты начал помнить себя?» – «А бог его знает, не знаю… Ведь мы, – слабо улыбается дед, – народ темный, в лесу живем, пням молимся… Допрежь тут везде леса были…» – «Какие леса?» – «А всякие. Дуб, например, сосна… Разбойники водились…» – «Разбойники? Ты историю какую-нибудь о них помнишь?» – «Нет, истории, слава богу, никакой не было…» – «Ну, а село какое было? Меньше теперешнего?» – «Все такая же… Церковь только на старом кладбище стояла, а не возле училища… Я четырех попов пережил…» Но каковы были эти попы, похожи ли на теперешних, этого Таганок не умеет рассказать. Но, может быть, он хорошо помнит господ, князей Козельских, и о них расскажет что-нибудь путное? – Помнить-то помнит… Но узнаёт учитель только то, что было три генерала: Семен Милыч, Мил Семеныч и Григорий Милыч; что господа они были хорошие, что особенно «лихим» нравом отличался Мил Семеныч…
– Тебя пороли? – спрашивает учитель.
– Нет, Бог не привел, – отвечает Таганок. – Однова только. Да еще раз в шею дал мне Мил Семеныч… На постройке… Я бревно не тое ухватил… Вот продавать – продавали… Возили… Осерчал барин на нас, на ребят… Ну, и отправил одинцать голов… В энтот, в Белев-то… Ну, привезли нас на базар, постановили друг с дружкой… Подошел бурмистр селезневский… Мы было дюже оробели, да не сошлось чтой-то дело… А за меня хорошо – полтораста пять давали…
Солнце уже скрылось за далеким полем; гуще и свежее пахнут конопляники в вечерней тени, роса пала на огороды. Почти черное, гробовое лицо Таганка стало еще безжизненнее, глаза совсем остекленели. Ему холодно, он кутается в полушубок, оправляет полы, глубже надвигает шапку и засовывает руки в рукава.
– Покойник Семен Милыч был крут! А помер он, заступил его место Мил Семеныч, – стало и совсем никуда… Молили мужики, чтобы ему Бог смерти дал… А я, бывало, скажу: «Напрасно вы его сбываете. Не сбывайте, – хуже будет…» Так оно и вышло… Да…
Таганок отдыхает; потом опять заводит медленную речь:
– Да… А как помер Мил Семеныч, привезли гроб в засмоленном рундуке… Скрозь рундук дрянь, кровь пролила… Нехорошо помер, без болезни, тело не выболело… Как, значит, кому назначено…
Учитель с трудом дослушивает этот тяжкий рассказ и поднимается.
– Ну, прощай, до свидания, дед, – говорит он. – Дай Бог тебе еще пожить.
Таганок кротко поднимает брови.
– Пожить-то? – отвечает он. – Да ведь и так уж сто с восьмеркой…
И, помолчав, опускает голову.
– Но ведь хочется небось?
– А бог ее знает…
– Но позволь, ты-то сам как чувствуешь?
– Да что ж чуствовать? Тут чуствовать нечего… Чуствуй, не чуствуй…
– Позволь: ну а если бы тебе, например, предложили пять лет прожить или год, – что ты выбрал?
Таганок слабо улыбается, глядя в землю:
– А господь ее знает…
И учитель тупо, долго глядит на него. Потом решительно пожимает его твердую ледяную руку и уходит.
Он уходит за деревню, в поле, и долго шагает в полутьме по мягкой пыльной дороге.
Возвращается уже в сумерки. Не спеша идет по улице. Огней нет, избы темны и тихи. Все спят. Пахнет жильем – как-то особенно, тепло, по-ночному. Сухо трюкают осторожные сверчки. Вот опять изба Глеба. Она вымазана известкой, слабо белеет. Стекла ее сини от вечера, в них еще слабо отражается небо. Внизу, по земле, реет какой-то еле заметный отсвет, отчего изба и полушубок кого-то сидящего на голыше возле нее странно выделяются. Кто это? Неужели Таганок?
– Дедушка, еще здравствуй, – негромко говорит учитель, очень тронутый видом этого одинокого, чужого всему миру человека, пережившего и всех сверстников своих и всех детей их.
– Кто это? – тихо откликается Таганок.
– Да я, учитель… Что же ты не спишь?
Таганок думает. Отвечает он теперь еще медленнее:
– Да какой наш сон… Древен я… А ночь эта – как медведь идет она на меня…
«Это не ночь, а смерть», – думает учитель; и, помолчав, спрашивает:
– Ну а как же? Пожил бы еще?
Тихо. Трюкают сверчки. На порог избы вышла дымчатая кошка, сбежала на землю – и стала невидима. Слабо белеет борода Таганка. Темного, гробового лица его не видно. Жив ли он?
Жив. Долго спустя он отзывается:
– Пожил бы… И пять годов одолел бы еще… Да за пять-то годов…
Он, видно, вспоминает сноху, свой шалаш, свою беспризорность, беспомощность. И легонько вздыхает:
– За пять-то годов вошь съест. А то пожил бы.
Ночной разговор
I
Небо было серебристо-звездно, поле за садом и гумном темнело ровно, на чистом горизонте четко чернела мельница с двумя рогами крыльев. Но звезды искрились, трепетали, часто прорезывали небо зеленоватыми полосками, сад шумел порывисто и уже по-осеннему, холодно. От мельницы, с пологой равнины, с опустевшего жнивья дул сильный ветер. Работники сытно поужинали, – был праздник, Успение, – и жадно накурились по дороге через сад на гумно. Накинув армяки сверх полушубков, они шли туда спать, стеречь хлебные вороха. За работниками, таща подушку, шел высокий гимназист и бежали три борзых белых собаки. На гумне, на свежем ветру, хорошо пахло мякиной, новой ржаной соломой. Все уютно улеглись в ней, в самом большом омете, поближе к ворохам и риге. Собаки повозились, пошуршали у ног и тоже успокоились.
Над головами лежавших слабо белел широкий, раздваивающийся дымно-прозрачными рукавами Млечный Путь, наполненный висящей в них мелкой звездной россыпью. В соломе было тепло и тихо. Но по лозняку, что темнел вдоль вала слева, то и дело тревожно шел и, разрастаясь, приближался глухим неприязненным шумом северо-восточный ветер. Тогда до лиц, до рук доходило прохладное дуновение вместе с дурным запахом из проходов между ометами. А по небосклону, за неправильными черными пятнами волновавшегося лозняка, остро мелькали, вспыхивали льдистые алмазы, разноцветными огнями загоралась Капелла.
Улегшись, позевали и закрыли глаза. Ветер дремотно шелестел торчавшей над головами колючей соломой. Но дошла до лиц прохлада – и все почувствовали, что спать еще не хочется, – выспались после обеда. Только один гимназист изнемогал от сладкой жажды сна. Но ему заснуть не давали блохи. Он стал чесаться, раздумался о девках, о вдове, с которой он, при помощи работника Пашки, потерял в это лето невинность, и тоже разгулялся.
Это был худой, неуклюжий подросток с нежным цветом лица, такого белого, что даже загар не брал его, с синими глазами, с большим кадыком. Он все лето не разлучался с работниками, – возил сперва навоз, потом снопы, оправлял ометы, курил махорку, подражал мужикам в говоре и в грубости с девками, которые дружески поднимали его на смех, встречали криками: «Веретёнкин, Веретёнкин!» – дурацким прозвищем, придуманным подавальщиком в молотилку Иваном. Он ночевал то на гумне, то в конюшне, по неделям не менял белья и парусиновой одежды, не снимал дегтярных сапог, сбил в кровь ноги с непривычки к портянкам, оборвал все пуговицы на летней шинели, испачканной колесами и навозом…
– Совсем отбился от дому! – с ласковой грустью говорила о нем мать, восхищаясь даже его недостатками. – Конечно, поправится, окрепнет, но посмотрите, какая лохматая чушка, даже шеи не моет! – улыбаясь, говорила она гостям и теребила его мягкие каштановые лохмы, стараясь добраться до нежного завитка, кудрявившегося, как у девочки, на его затылке, на темной шее, отделявшейся от видного под косовороткой по-детски белого тела, от больших позвонков под тонкой гладкой кожей. А он угрюмо вывертывал голову из-под ее ласковой руки, хмурился, краснел. Он рос не по дням, а по часам и на ходу гнулся, задумчиво свистал, угловато вилял из стороны в сторону. Он еще ел липовый цвет и вишневый клей, носил, хотя уже тайком, в кармане парусиновых панталон рогульку для стрельбы по воробьям, но сгорел бы от стыда, если б это обнаружилось, и не выпускал рук из карманов. Еще зимой он играл с Лилей в краснокожих. Но весной, когда по всем улицам города текли и дрожали ослепительным блеском ручьи, когда в классах горели от солнца белые подоконники, солнцем был пронизан голубой дым в учительской и директорская кошка подстерегала первых зябликов в гимназическом саду, еще полном серебряного снега, – весной он вообразил, что влюбился в худенькую, маленькую, начитанную и серьезную гимназистку Юшкову, подружился с шестиклассником в очках Симашко и решил посвятить все каникулы самообразованию. А летом мечты о самообразовании были уже забыты, было принято новое решение – изучить народ, вскоре перешедшее в страстное увлечение мужиками.
Вечером на Успение гимназист был налит сном еще за ужином. К концу каждого дня, когда туманилась и на грудь падала голова, – от усталости, от разговоров с работниками, от роли взрослого, – возвращалось детство: хотелось поиграть с Лилей, помечтать перед сном о каких-нибудь дальних и неведомых странах, о необыкновенных проявлениях страсти и самопожертвования, о жизни Ливингстона, Беккера, а не мужиков Наумова и Нефедова, прочитать которых дано было Симашке честное слово; хотелось хоть одну ночь переночевать дома и не вскакивать до солнца, на холодной утренней заре, когда даже собаки так томно зевают и тянутся… Но вошла горничная, сказала, что работники уже пошли на гумно. Не слушая криков матери, гимназист накинул на плечи шинель с мотающимся хлястиком и картуз на голову, схватил из рук горничной подушку и в аллее нагнал работников. Он шел, шатаясь от дремоты, таща за угол подушку, и, как только довалился до омета, подлез под старую енотовую шубу, лежавшую там, так сейчас же и поплыл, понесся в сладкую черную тьму. Но огнем стали жечь мелкие собачьи блохи, стали переговариваться работники…