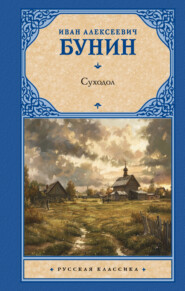По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Темные аллеи. Окаянные дни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– То есть как это пустил по рукам?
– А так. По мастерским. Сперва я позировала вся одетая, в желтом платочке, и все художницам, Кувшинниковой, сестре Чехова, – она, по правде сказать, совсем никуда была в нашем деле, дилитанка, – потом попала аж к самому Малявину: он мине посадил голую на ноги, на пятки, спиной к себе, с рубашкой над головой, будто я ее надеваю, и написал. Спина и зад вышли отлично, сильная лепка, только он испортил пятками и подошвами, совсем противно вывернул их под задом…
– Ну, Катька, молчать. Второй звонок. Давай кофейник.
– Ой, батюшки, заговорилась! Даю, даю…
30 апреля 1944
Железная шерсть
– Нет, я не инок, ряса моя и скуфья означают лишь то, что я грешный раб божий, странник, сушею и водами ходящий вот уже шестой десяток лет. Родом же я дальний, северный. Там Россия глухая, древняя, леса да болоты с озерами, селения редкие. Зверя много, птицы несть числа, филинов ушастых видишь – сидит в черной ели, пучит янтарное око. Есть носатый лось, есть прекрасный олень – плачем и зовом звенит в бору к своей подруге… Зимы снежные, долгие, перехожий волк под самые окна подходит. Летом же качается, шатается по лесам медведь широколапый, в дебрях леший свищет, аукает, на дудках играет; в ночи утопленницы туманом на озерах белеют, нагими лежат на брегах, соблажняя человека на любодеяние, ненасытый блуд; и есть немало несчастных, что токмо в сем блуде и упражняются, провождают с ними ночь, день же спят, в тресовицах пылают, оставя всякое иное житейское попечение… Несть ни единой силы в мире сильнее похоти – что у человека, что у гада, у зверя, у птицы, пуще же всего у медведя и у лешего!
Тот медведь у нас зовется Железная Шерсть, а леший – просто Лес. И женщин любят они, и тот и другой, до лютого лакомства. Пойдет женщина или даже невинная в бор за хворостом, за ягодой – глядишь, затяжелела: плачет и кается – меня, говорит, Лес осилил. А иная на медведя жалуется: повстречал-де Железная Шерсть и блуд со мной сотворил – могла ли от него спастись! Вижу, идет на меня, пала я ниц, а он надшел, обнюхал – мол, не мертва ли? – завернул на мне свитку и исподнее, задавил меня… Только, правду сказать, нередко лукавят они: случается даже с отроковицами, что сами они прельщают его, падают наземь ничком и, падая, еще и обнажаются, как бы нечаянно. Да и то взять: трудно устоять женщине что перед медведем, что перед лешим, а что будет она оттого впоследствии времени кликуша, икотница, о том заране не думает. Медведь – он и зверь и не зверь, недаром верят у нас, что он может, да только не хочет говорить. Вот и поймешь, до чего женской душе прельстительно иметь такое страшное соитие! А про лешего и говорить нечего – тот еще страшней и сладострастнее. Я о нем ничего не могу утверждать, Бог миловал видеть его, а которые видели, те говорят, будто он подобен по рубахе и портам и прочей наружности мужику-смолокуру, однако же кровь у него синяя, оттого и с лица темен, ногами мохнат и тени от себя не может иметь ни при солнце, ни при месяце; завидя на лесном пути прохожего, тот же час согнется весь и такого духу даст – векша не догонит! Не то при встрече с женщиной: он не токмо не боится ее, но, зная, что тут ее самоё ужас и похоть берет, козлом пляшет к ней и берет ее с веселостью, с яростью: падет она наземь ничком, как и перед медведем, а он сбросит порты с лохматых ног, навалится с заду, щекочет обнаженную, гогочет, хрюкает и до того воспаляет ее, что она уж без сознания млеет под ним, – иные сами рассказывали…
Все сие я к себе клоню. Пошел я на весь свой век сирым странником по причине того несказанного бедствия, что постигло меня на самой заре моей. Женили меня родители на прекрасной девице из богатого и старинного крестьянского двора, которая была еще млаже меня и дивной прелести: личико прозрачное, первого снега белей, глаза лазоревые, как у святых отроковиц… Но вот в первой же брачной ночи нашей кинулась она от моих объятий под образа в спальной горнице, говоря мне: «Ужели дерзнешь взять мое тело под святой божницею и елейными лампадами? Я приняла венец с тобой не своей волею и не могу быть твоей супругою, зане должна удалиться в скит и монастырь, дабы принять другой венец, умереть для мира заживо, по жестоким грехам моим». Я отвечаю ей: видно, впала ты в безумие, какой же может быть жестокий грех на твоей душе в твоем невинном возрасте! Она же мне: «Про то одна Матерь Божия ведает, ей же дала я, покаявшись, обет быть чистою». И тогда я – пуще всего от ее сопротивления и подобных страшных слов, да еще под святынями – озверел столь необузданной страстью, что упился ею как раз на том месте, на полу, сколь ни противилась она своей слабой силою и мольбами и рыданием, и вспомнил лишь после того, что имел я ее невинности уже лишенную, не подумавши, однако, кем и как лишена она ее. Будучи во хмелю, в сей же час заснул крепким сном. Она же, в одном исподнем, убежала из спальной горницы в лес и там на своем брачном поясе повесилась. Когда же обрели ее там, то увидели: сидит на снегу у тонких босых ног ее, склонив голову, великий медведь. И, как тот олень, три дня и три ночи оглашал я потом леса окрест своим плачем и зовом, ее на земле уже не достигавшим.
1 мая 1944
Холодная осень
В июне того года он гостил у нас в имении – всегда считался у нас своим человеком: покойный отец его был другом и соседом моего отца. Пятнадцатого июня убили в Сараеве Фердинанда. Утром шестнадцатого привезли с почты газеты. Отец вышел из кабинета с московской вечерней газетой в руках в столовую, где он, мама и я еще сидели за чайным столом, и сказал:
– Ну, друзья мои, война! В Сараеве убит австрийский кронпринц. Это война!
На Петров день к нам съехалось много народу, – были именины отца, – и за обедом он был объявлен моим женихом. Но девятнадцатого июля Германия объявила России войну…
В сентябре он приехал к нам всего на сутки – проститься перед отъездом на фронт (все тогда думали, что война кончится скоро, и свадьба наша была отложена до весны). И вот настал наш прощальный вечер. После ужина подали, по обыкновению, самовар, и, посмотрев на запотевшие от его пара окна, отец сказал:
– Удивительно ранняя и холодная осень!
Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обменивались незначительными словами, преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства. С притворной простотой сказал отец и про осень. Я подошла к балконной двери и протерла стекло платком: в саду, на черном небе, ярко и остро сверкали чистые ледяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресло, рассеянно глядя на висевшую над столом жаркую лампу, мама, в очках, старательно зашивала под ее светом маленький шелковый мешочек, – мы знали какой, – и это было и трогательно и жутко. Отец спросил:
– Так ты все-таки хочешь ехать утром, а не после завтрака?
– Да, если позволите, утром, – ответил он. – Очень грустно, но я еще не совсем распорядился по дому.
Отец легонько вздохнул:
– Ну как хочешь, душа моя. Только в этом случае нам с мамой пора спать, мы непременно хотим проводить тебя завтра…
Мама встала и перекрестила своего будущего сына, он склонился к ее руке, потом к руке отца. Оставшись одни, мы еще немного побыли в столовой, – я вздумала раскладывать пасьянс, – он молча ходил из угла в угол, потом спросил:
– Хочешь пройдемся немного?
На душе у меня делалось все тяжелее, я безразлично отозвалась:
– Хорошо…
Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой усмешкой вспомнил стихи Фета:
Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот…
– Капота нет, – сказала я. – А как дальше?
– Не помню. Кажется, так:
Смотри – меж чернеющих сосен
Как будто пожар восстает…
– Какой пожар?
– Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах. «Надень свою шаль и капот…» Времена наших дедушек и бабушек… Ах боже мой, боже мой!
– Что ты?
– Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю тебя…
Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, сошли в сад. Сперва было так темно, что я держалась за его рукав. Потом стали обозначаться в светлеющем небе черные сучья, осыпанные минерально блестящими звездами. Он, приостановясь, обернулся к дому:
– Посмотри, как совсем особенно, по-осеннему светят окна дома. Буду жив, вечно буду помнить этот вечер…
Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке. Я отвела от лица пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он посмотрел мне в лицо.
– Как блестят глаза, – сказал он. – Тебе не холодно? Воздух совсем зимний. Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня?
Я подумала: «А вдруг правда убьют? и неужели я все-таки забуду его в какой-то срок – ведь все в конце концов забывается?» И поспешно ответила, испугавшись своей мысли:
– Не говори так! Я не переживу твоей смерти!
Он, помолчав, медленно выговорил:
– Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне.
Я горько заплакала…
Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, что зашивала вечером, – в нем был золотой образок, который носили на войне ее отец и дед, – и мы все перекрестили его с каким-то порывистым отчаянием. Глядя ему вслед, постояли на крыльце в том отупении, которое всегда бывает, когда проводишь кого-нибудь на долгую разлуку, чувствуя только удивительную несовместность между нами и окружавшим нас радостным, солнечным, сверкающим изморозью на траве утром. Постояв, вошли в опустевший дом. Я пошла по комнатам, заложив руки за спину, не зная, что теперь делать с собой и зарыдать ли мне или запеть во весь голос…
Убили его – какое странное слово! – через месяц, в Галиции. И вот прошло с тех пор целых тридцать лет. И многое, многое пережито было за эти годы, кажущиеся такими долгими, когда внимательно думаешь о них, перебираешь в памяти все то волшебное, непонятное, не постижимое ни умом, ни сердцем, что называется прошлым. Весной восемнадцатого года, когда ни отца, ни матери уже не было в живых, я жила в Москве, в подвале у торговки на Смоленском рынке, которая все издевалась надо мной: «Ну, ваше сиятельство, как ваши обстоятельства?» Я тоже занималась торговлей, продавала, как многие продавали тогда, солдатам в папахах и расстегнутых шинелях кое-что из оставшегося у меня – то какое-нибудь колечко, то крестик, то меховой воротник, побитый молью, и вот тут, торгуя на углу Арбата и рынка, встретила человека редкой, прекрасной души, пожилого военного в отставке, за которого вскоре вышла замуж и с которым уехала в апреле в Екатеринодар. Ехали мы туда с ним и его племянником, мальчиком лет семнадцати, тоже пробиравшимся к добровольцам, чуть не две недели, – я бабой, в лаптях, он в истертом казачьем зипуне, с отпущенной черной с проседью бородой, – и пробыли на Дону и на Кубани больше двух лет. Зимой, в ураган, отплыли с несметной толпой прочих беженцев из Новороссийска в Турцию, и на пути, в море, муж мой умер в тифу. Близких у меня осталось после того на всем свете только трое: племянник мужа, его молоденькая жена и их девочка, ребенок семи месяцев. Но и племянник с женой уплыли через некоторое время в Крым, к Врангелю, оставив ребенка на моих руках. Там они и пропали без вести. А я еще долго жила в Константинополе, зарабатывая на себя и на девочку очень тяжелым черным трудом. Потом, как многие, где только не скиталась я с ней! Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца… Девочка давно выросла, осталась в Париже, стала совсем француженкой, очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне, служила в шоколадном магазине возле Мадлэн, холеными ручками с серебряными ноготками завертывала коробки в атласную бумагу и завязывала их золотыми шнурочками; а я жила и все еще живу в Ницце чем Бог пошлет… Была я в Ницце в первый раз в девятьсот двенадцатом году – и могла ли думать в те счастливые дни, чем некогда станет она для меня!
Так и пережила я его смерть, опрометчиво сказав когда-то, что я не переживу ее. Но, вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: да, а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер. Ужели он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни, – остальное ненужный сон. И я верю, горячо верю: где-то там он ждет меня – с той же любовью и молодостью, как в тот вечер. «Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне…» Я пожила, порадовалась, теперь уже скоро приду.
3 мая 1944
Пароход «Саратов»
В сумерки прошумел за окнами короткий майский дождь. Рябой денщик, пивший в кухне при свете жестяной лампочки чай, посмотрел на часы, стучавшие на стене, встал и неловко, стараясь не скрипеть новыми сапогами, прошел в темный кабинет, подошел к оттоманке: