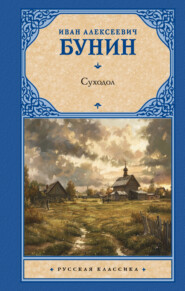По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Митина любовь (сборник)
Автор
Жанр
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вскоре юношеская сила овладела им – дерзкая решительность, уверенность в каждой своей мысли, в каждом своем чувстве, – сознание, что он все может, все смеет, что нет более для него сомнений, нет преград. Он исполнился надежд и радости. Ему казалось, что мрачные, дьявольские наваждения жизни, черными волнами заливавшие его воображение, отступают от него. Осанна! Благословен грядый во имя Господне!
Теперь перед его умственным взором, с потрясающей, с небывалой доселе ясностью, стояло лишь то, чего жаждало его сердце, сердце не раба жизни, а творца ее, как мысленно говорил он себе. Небеса, преисполненные вечного света, млеющие эдемской лазурью и клубящиеся дивными, хотя и смутными облаками, грезились ему; светозарные лики и крылья несметных ликующих серафимов проступали в жуткой литургической красоте небес; Бог Отец, грозный и радостный, благий и торжествующий, как в дни творения, высился среди них радужным исполинским видением; Дева неизреченной прелести, с очами, полными блаженства счастливой матери, стоя на облачных клубах, сквозящих синью земных далей, простертых под нею, являла миру, высоко поднимала на божественных руках своих младенца, блистающего, как солнце, и дикий, могучий Иоанн, препоясанный звериной шкурою, на коленях стоял возле ее ног, в исступлении любви, нежности и благодарности целуя край ее одежды…
И художник снова кинулся к своей работе. Он ломал и с лихорадочной поспешностью, трясущимися руками вновь острил ножом карандаши. Догоравшие свечи, оплывшие, текущие по раскаленным подсвечникам, еще жарче пылали возле его лица, завешанного вдоль щек мокрыми волосами.
В шесть часов он бешено давил кнопку звонка: он кончил, кончил! Затем побежал к столу и стоя, с бьющимся сердцем, стал ждать коридорного. Теперь он был бледен такой бледностью, что губы у него казались черными. Вся куртка его была осыпана разноцветной пылью карандашей. Темные глаза горели нечеловеческим страданием и вместе с тем каким-то свирепым восторгом.
Никто не шел. Гробовая тишина окружала его. Но он стоял, он ждал, весь превратившись в слух и ожидание. Вот, сию минуту вбежит коридорный, и он, творец, завершивший свой труд, изливший свою душу по воле самого божества, быстро скажет ему заранее приготовленные, страшные и победительные слова:
– Возьми. Я тебе дарю это.
И он, близкий от стука своего сердца к потере сознания, крепко держал в руке картон. На картоне же, сплошь расцвеченном, чудовищно громоздилось то, что покорило его воображение в полной противоположности его страстным мечтам. Дикое, черно-синее небо до зенита пылало пожарами, кровавым пламенем дымных, разрушающихся храмов, дворцов и жилищ. Дыбы, эшафоты и виселицы с удавленниками чернели на огненном фоне. Над всей картиной, над всем этим морем огня и дыма, величаво, демонически высился огромный крест с распятым на нем, окровавленным страдальцем, широко и покорно раскинувшим длани по перекладинам креста. Смерть, в доспехах и зубчатой короне, оскалив свою гробную челюсть, с разбегу подавшись вперед, глубоко всадила под сердце распятого железный трезубец.
Низ же картины являл беспорядочную груду мертвых – и свалку, грызню, драку живых, смешение нагих тел, рук и лиц. И лица эти, ощеренные, клыкастые, с глазами, выкатившимися из орбит, были столь мерзостны и грубы, столь искажены ненавистью, злобой, сладострастием братоубийства, что их можно было признать скорее за лица скотов, зверей, дьяволов, но никак не за человеческие.
Париж. 1921
О дураке Емеле, какой вышел всех умнее
Емеля был дурак, а прожил на свете так, как дай бог всякому: не сеял, не пахал и никакой работы не знал, а на печке сытенький полеживал. К самому царю на оправданье на печке ездил.
Пошел по воду Емеля, – его братья по сторонам нанимались, а он только на печи лежал и невесткам угожал, за водой вразвалочку ходил, дрова колол да сладким сном занимался, – пришел на речку, а в воде черная щука ходит. Он ее поскорей за хвост и давай на берег тащить, а она его стала со слезьми об милости просить:
– Мол, пусти меня, Емеля, я гожусь тебе в некое время.
Он ее бросил, отпустил, а она и говорит:
– Проси, чего тебе хочется, не хочется.
– Мне, – говорит Емеля, – ведра несть не хочется: пущай сами идут.
Она сейчас сказала: «По щучью по веленью, по моему прошенью, идите, ведра, собой сами!» – они и пошли сами ко двору. Емеля следом за ними поспешает, песенки потанакивает, а они покачиваются, как утки, сами идут. По селу народ встречается, во все окна глядят: глянь-ка, мол, глянь, у Емельки ведра сами идут! – А он дошел до двора и шумит:
– Эй вы, двери-тетери, по щучью по веленью, по моему прошенью, отворяйтесь, двери, собой сами! Мне неохота себя трудить, у меня одна думка – послаже на свете пожить!
Тут двери сейчас собой сами растворились, а ведра только через порог посигивают, стали в избу прядать-скакать, а невестки от них куда попало кидаются, испужались дюже:
– Что это, дескать, такое, что это ты, дурак, дуросветишь? Где ты такое взял, что ведра у тебя сами ходят?
– У вас, – говорит Емеля, – не ходят, а у меня, – говорит, – ходят. Это уж пущай умные хрип-то гнут! Пеките мне блинов за работу!
Ну вот и не раз и не два ходил Емеля таким побытом на речку, и всё ведра у него сами гуляли. Потом, глядь, дров нету. Они и просят его, невестки-то:
– Емеля, а Емеля, у нас дров рубленых нету. Ступай скорее за дровами, а то тебе же на печи холодно будет.
Он опять им, ни слова не говоря, покоряется, выходит, стало быть, на двор с ленцой, с раскорячкою и приказывает:
– Мне, – говорит, – смерть не хочется дрова рубить, ну-ка, по щучью по веленью, по моему прошенью, руби, топор, сам. А вы, дрова-борова, идите собой сами в избу, мне не хочется вас носить, себя беспокоить. Сторона наша, дескать, богатая, лень дремучая, рогатая: в тесные ворота не лезет!
Топор-колун сейчас у него из рук шмыг, взвился выше крыши и пошел долбить, двери в сенцы, в избу распахнулись, а дрова и давай скакать – прыгают, вроде как рыбы али щуки, а невестки опять дуром этого дела испужались, прячутся какая под стол, какая под коник, – мол, попадет, насмерть ушибет! – а топор так и крошит, так и валяет, – во-о сколько нашвырял, цельное беремя. Невестки Емелю с гневом ругают, грозят братьям нажалиться, а он только, как сом, ухмыляется:
– Вы блины-то мне пеките знайте да маслом дюжей поливайте. – А сам опять на печь в отставку полез, спать да дремать, мусором голову пересыпать.
Потом не за долгое время и на дворе дрова перевелись. Невестки приступили, в лес его посылают, братьями тращают, нынче, дескать, братья с работы придут, мы им накажем, что ты нас не слухаешься, только лежишь да тараканов мнешь, они тебя, облома, не помилуют. А он, Емеля, на расправу жидкий был, страсть этого боя боялся, вскочил поскорей с печи, оделся в свой зипун-малахай, кушаком подпоясался, взял топор-колун и заткнул за кушак за этот. Невестки говорят – тебе надо лошадь запрячь, ты ведь сам не умеешь по своей дурости, а он говорит, а на что она мне, лошадь-то, – только маять ее? Я и на санях на одних съезжу, у вас не ходят без лошади сани, а у меня вот ходят.
Пошел к саням, подвязал оглобли назад, сел и приказывает: «По щучью по веленью, по моему прошенью, отворяйтесь, ворота, сами!» Ворота сейчас растворяются, а он кричит: «А вы, сани, ступайте в путь-дорогу сами!» Сани и полетели, – их лошадь так не везет, как их понесло! – скачут через город, людей с ног долой сшибают, давят, а ему, Емеле, и горюшка мало. Народ – «ах, ах, сани сами едут!» – хотели его окоротить – куда тебе, его и след замело! Потом приехал он в лес, остановились эти сани, значит, в лесе. Слезает он с саней, Емеля, вынимает топор из-за пояса:
– Ну-ка, – говорит, – руби, топор, по моему, по щучьему веленью. А я посижу, погляжу, в голове маленько почешу: страсть свербит чтой-то!
Топор сейчас же начинает рубить – только звон жундит по лесу! Нарубил, сколько надо, потом Емеля и говорит: «А вы, дрова, по моему прошенью, ложитесь в сани сами, мне неохота вас класть, это мне не сласть». Дрова и пошли прядать, головами мотать да укладываться в сани. Навил Емеля воз, заткнул топор за кушак-подпояску, садится на сани и приказывает, ступайте, мол, теперича, сани, сами собой ко двору. Сани опять пустились стрелой по городу, дворяне и миряне увидали – «ах, ах, опять этот злодей, какой народ подавил!» – хотели его перенять, забежали под дорогу с дубинками, с рогачами, только не тут-то было, перенять-то его! Подавил с возом народу еще боле, чем когда порожнем ехал, приезжает ко двору, невестки оглядели в окно и давай опять ругать его, – вот, мол, дурак какой глупый, сколько ты, облом, народу безвинно подавил, а он им отвечает, а зачем, говорит, они меня на табельной дороге окорачивали с дубинками, с рогачами, под сани лезли? Потом сказал свое щучье слово, ворота перед ним враз растворились, он и въехал во двор с возом. Тут опять, значит, посигали дрова-поленья в избу, напужали невесток опять этим стуком, а Емеля-дурак залез на печь и опять наказал печь ему блинов поболе да маслом мазать пожирнее.
Ну вот он ел, ел, потом глядь в окно, а тут розыск, ищут его сотники, староста, хотят к наказанью представить за все его баснословья. Он, был, забился, куда потемнее в угол, в сор, в паучину, ну только все-таки они его нашли там, на этой печке.
– Слезай, – говорят, – Емеля, пришло твое время. Что это ты дуросветишь, народ калечишь? Вот мы тебя заберем и в холодную отведем, как это, мол, ты без лошади ездишь, неладно делаешь, чепуху творишь?
Зачали его с печки снимать, тащить, хотят его покою лишить, а он обиделся на них и говорит дубинке своей, какая у него в уголку стояла:
– Ну-ка, – говорит, – покажи им, дубинка, белый свет!
Сказал свое щучье слово, а дубинка как взовьется, как козлекнет из угла, да и давай их строчить по рукам, по головам, старосту и сотников этих. Они – ах, ах, что это, дескать, такое, что дубинка нас по головам кро?я? – да поскорей вон из хаты. Кинулись к становому, к стражникам, он, говорят, нас не слухается, а силой его никак не возьмешь, идите, значит, сами, может, он вас боле почитает, а про дубинку про эту, какая их угощала, понятное дело, молчок. Потом собрались все урядники, стражники и сам становой с ними, староста им указал, где он, Емеля, спасается, они и входят в избу к нему всем гуртом:
– Ну теперь, Емеля-дурачок, мы тебя с солдатами заберем, саблями тебя зарубим, – слезай скорей с печи, надевай зипун на плечи, к допросу отправляйся!
А он опять не слухается, – их полна изба напихалась, а он опять не идет, в углу песенку поет:
Ой, вы, очи, ясные мои очи,
Емеля на расправу итить не хоча!
Они его честью умоляют, а он опять свое, опять эти очи поет. Ну, как они его опять раздражили, он и говорит:
– По щучью по веленью, по моему моленью, – а дубинка эта так и лежит с ним на печке, – ну-ка, – говорит, – дубинка, попотчуй их сахаром!
Та дубинка сейчас вставает и давай их охаживать с головы на голову, станового и стражников, и повыгнала, значит, всех из хаты вон.
– Ну что теперь с ним делать, – становой говорит, – как его нам взять, ребята?
А один стражник и надумайся:
– Давайте, – говорит, – обманом возьмем. Скажем, что тебя сам государь велел пригласить. Он тебе велит всяких пряников медовых надавать. (А он, Емеля, любитель был есть эти пряники и жамки.) Он тебя, мол, досыта накормит, государь-то.
Сговорились так-то, пришли и давай его улещать, волновать. Ну он и согласился. Ну хорошо, говорит, благодарю вас за внимание, ступайте ко двору и не беспокойте себя, – я сам к нему, к государю, поеду.
Они и ушли все от него, а он и приказывает печке:
– Ну-ка, – говорит, – печка, ступай-ка теперь, по моему приказу, к самому к царю во дворец! Про нас с тобой слава до самого царя дошла. Он, государь, обещает меня жамками накормить, а я любитель до них.
Печь сейчас же заворочалась, захрустела, загремела по избе, выпросталась наружу с ним и полетела стрелой, а он развалился на ней, все равно как на пассажирном поезде, на паровозе едет. Подъезжает к государеву дворцу, приказывает царским вратам отворяться и прет прямо на печке на этой к балкону, к крыльцу к главному, а сам шумит, кричит во всю глотку, во всю праведную: «Ой, вы, очи, мои ясные очи!» Часовые слуги бегут, хотят его унять, усовестить, а государь услыхал этот шум-бардак и сам, значит, вместе с дочкой-наследницей на крыльцо выходит:
– Что ты, – говорит, – невежа, тут кричишь, зачем ты, – говорит, – в наши царские покои приехал, чудеса творишь, на печке ездишь? Сказывай, кто ты такой. Ты, верно, Емеля-дурачок?
Теперь перед его умственным взором, с потрясающей, с небывалой доселе ясностью, стояло лишь то, чего жаждало его сердце, сердце не раба жизни, а творца ее, как мысленно говорил он себе. Небеса, преисполненные вечного света, млеющие эдемской лазурью и клубящиеся дивными, хотя и смутными облаками, грезились ему; светозарные лики и крылья несметных ликующих серафимов проступали в жуткой литургической красоте небес; Бог Отец, грозный и радостный, благий и торжествующий, как в дни творения, высился среди них радужным исполинским видением; Дева неизреченной прелести, с очами, полными блаженства счастливой матери, стоя на облачных клубах, сквозящих синью земных далей, простертых под нею, являла миру, высоко поднимала на божественных руках своих младенца, блистающего, как солнце, и дикий, могучий Иоанн, препоясанный звериной шкурою, на коленях стоял возле ее ног, в исступлении любви, нежности и благодарности целуя край ее одежды…
И художник снова кинулся к своей работе. Он ломал и с лихорадочной поспешностью, трясущимися руками вновь острил ножом карандаши. Догоравшие свечи, оплывшие, текущие по раскаленным подсвечникам, еще жарче пылали возле его лица, завешанного вдоль щек мокрыми волосами.
В шесть часов он бешено давил кнопку звонка: он кончил, кончил! Затем побежал к столу и стоя, с бьющимся сердцем, стал ждать коридорного. Теперь он был бледен такой бледностью, что губы у него казались черными. Вся куртка его была осыпана разноцветной пылью карандашей. Темные глаза горели нечеловеческим страданием и вместе с тем каким-то свирепым восторгом.
Никто не шел. Гробовая тишина окружала его. Но он стоял, он ждал, весь превратившись в слух и ожидание. Вот, сию минуту вбежит коридорный, и он, творец, завершивший свой труд, изливший свою душу по воле самого божества, быстро скажет ему заранее приготовленные, страшные и победительные слова:
– Возьми. Я тебе дарю это.
И он, близкий от стука своего сердца к потере сознания, крепко держал в руке картон. На картоне же, сплошь расцвеченном, чудовищно громоздилось то, что покорило его воображение в полной противоположности его страстным мечтам. Дикое, черно-синее небо до зенита пылало пожарами, кровавым пламенем дымных, разрушающихся храмов, дворцов и жилищ. Дыбы, эшафоты и виселицы с удавленниками чернели на огненном фоне. Над всей картиной, над всем этим морем огня и дыма, величаво, демонически высился огромный крест с распятым на нем, окровавленным страдальцем, широко и покорно раскинувшим длани по перекладинам креста. Смерть, в доспехах и зубчатой короне, оскалив свою гробную челюсть, с разбегу подавшись вперед, глубоко всадила под сердце распятого железный трезубец.
Низ же картины являл беспорядочную груду мертвых – и свалку, грызню, драку живых, смешение нагих тел, рук и лиц. И лица эти, ощеренные, клыкастые, с глазами, выкатившимися из орбит, были столь мерзостны и грубы, столь искажены ненавистью, злобой, сладострастием братоубийства, что их можно было признать скорее за лица скотов, зверей, дьяволов, но никак не за человеческие.
Париж. 1921
О дураке Емеле, какой вышел всех умнее
Емеля был дурак, а прожил на свете так, как дай бог всякому: не сеял, не пахал и никакой работы не знал, а на печке сытенький полеживал. К самому царю на оправданье на печке ездил.
Пошел по воду Емеля, – его братья по сторонам нанимались, а он только на печи лежал и невесткам угожал, за водой вразвалочку ходил, дрова колол да сладким сном занимался, – пришел на речку, а в воде черная щука ходит. Он ее поскорей за хвост и давай на берег тащить, а она его стала со слезьми об милости просить:
– Мол, пусти меня, Емеля, я гожусь тебе в некое время.
Он ее бросил, отпустил, а она и говорит:
– Проси, чего тебе хочется, не хочется.
– Мне, – говорит Емеля, – ведра несть не хочется: пущай сами идут.
Она сейчас сказала: «По щучью по веленью, по моему прошенью, идите, ведра, собой сами!» – они и пошли сами ко двору. Емеля следом за ними поспешает, песенки потанакивает, а они покачиваются, как утки, сами идут. По селу народ встречается, во все окна глядят: глянь-ка, мол, глянь, у Емельки ведра сами идут! – А он дошел до двора и шумит:
– Эй вы, двери-тетери, по щучью по веленью, по моему прошенью, отворяйтесь, двери, собой сами! Мне неохота себя трудить, у меня одна думка – послаже на свете пожить!
Тут двери сейчас собой сами растворились, а ведра только через порог посигивают, стали в избу прядать-скакать, а невестки от них куда попало кидаются, испужались дюже:
– Что это, дескать, такое, что это ты, дурак, дуросветишь? Где ты такое взял, что ведра у тебя сами ходят?
– У вас, – говорит Емеля, – не ходят, а у меня, – говорит, – ходят. Это уж пущай умные хрип-то гнут! Пеките мне блинов за работу!
Ну вот и не раз и не два ходил Емеля таким побытом на речку, и всё ведра у него сами гуляли. Потом, глядь, дров нету. Они и просят его, невестки-то:
– Емеля, а Емеля, у нас дров рубленых нету. Ступай скорее за дровами, а то тебе же на печи холодно будет.
Он опять им, ни слова не говоря, покоряется, выходит, стало быть, на двор с ленцой, с раскорячкою и приказывает:
– Мне, – говорит, – смерть не хочется дрова рубить, ну-ка, по щучью по веленью, по моему прошенью, руби, топор, сам. А вы, дрова-борова, идите собой сами в избу, мне не хочется вас носить, себя беспокоить. Сторона наша, дескать, богатая, лень дремучая, рогатая: в тесные ворота не лезет!
Топор-колун сейчас у него из рук шмыг, взвился выше крыши и пошел долбить, двери в сенцы, в избу распахнулись, а дрова и давай скакать – прыгают, вроде как рыбы али щуки, а невестки опять дуром этого дела испужались, прячутся какая под стол, какая под коник, – мол, попадет, насмерть ушибет! – а топор так и крошит, так и валяет, – во-о сколько нашвырял, цельное беремя. Невестки Емелю с гневом ругают, грозят братьям нажалиться, а он только, как сом, ухмыляется:
– Вы блины-то мне пеките знайте да маслом дюжей поливайте. – А сам опять на печь в отставку полез, спать да дремать, мусором голову пересыпать.
Потом не за долгое время и на дворе дрова перевелись. Невестки приступили, в лес его посылают, братьями тращают, нынче, дескать, братья с работы придут, мы им накажем, что ты нас не слухаешься, только лежишь да тараканов мнешь, они тебя, облома, не помилуют. А он, Емеля, на расправу жидкий был, страсть этого боя боялся, вскочил поскорей с печи, оделся в свой зипун-малахай, кушаком подпоясался, взял топор-колун и заткнул за кушак за этот. Невестки говорят – тебе надо лошадь запрячь, ты ведь сам не умеешь по своей дурости, а он говорит, а на что она мне, лошадь-то, – только маять ее? Я и на санях на одних съезжу, у вас не ходят без лошади сани, а у меня вот ходят.
Пошел к саням, подвязал оглобли назад, сел и приказывает: «По щучью по веленью, по моему прошенью, отворяйтесь, ворота, сами!» Ворота сейчас растворяются, а он кричит: «А вы, сани, ступайте в путь-дорогу сами!» Сани и полетели, – их лошадь так не везет, как их понесло! – скачут через город, людей с ног долой сшибают, давят, а ему, Емеле, и горюшка мало. Народ – «ах, ах, сани сами едут!» – хотели его окоротить – куда тебе, его и след замело! Потом приехал он в лес, остановились эти сани, значит, в лесе. Слезает он с саней, Емеля, вынимает топор из-за пояса:
– Ну-ка, – говорит, – руби, топор, по моему, по щучьему веленью. А я посижу, погляжу, в голове маленько почешу: страсть свербит чтой-то!
Топор сейчас же начинает рубить – только звон жундит по лесу! Нарубил, сколько надо, потом Емеля и говорит: «А вы, дрова, по моему прошенью, ложитесь в сани сами, мне неохота вас класть, это мне не сласть». Дрова и пошли прядать, головами мотать да укладываться в сани. Навил Емеля воз, заткнул топор за кушак-подпояску, садится на сани и приказывает, ступайте, мол, теперича, сани, сами собой ко двору. Сани опять пустились стрелой по городу, дворяне и миряне увидали – «ах, ах, опять этот злодей, какой народ подавил!» – хотели его перенять, забежали под дорогу с дубинками, с рогачами, только не тут-то было, перенять-то его! Подавил с возом народу еще боле, чем когда порожнем ехал, приезжает ко двору, невестки оглядели в окно и давай опять ругать его, – вот, мол, дурак какой глупый, сколько ты, облом, народу безвинно подавил, а он им отвечает, а зачем, говорит, они меня на табельной дороге окорачивали с дубинками, с рогачами, под сани лезли? Потом сказал свое щучье слово, ворота перед ним враз растворились, он и въехал во двор с возом. Тут опять, значит, посигали дрова-поленья в избу, напужали невесток опять этим стуком, а Емеля-дурак залез на печь и опять наказал печь ему блинов поболе да маслом мазать пожирнее.
Ну вот он ел, ел, потом глядь в окно, а тут розыск, ищут его сотники, староста, хотят к наказанью представить за все его баснословья. Он, был, забился, куда потемнее в угол, в сор, в паучину, ну только все-таки они его нашли там, на этой печке.
– Слезай, – говорят, – Емеля, пришло твое время. Что это ты дуросветишь, народ калечишь? Вот мы тебя заберем и в холодную отведем, как это, мол, ты без лошади ездишь, неладно делаешь, чепуху творишь?
Зачали его с печки снимать, тащить, хотят его покою лишить, а он обиделся на них и говорит дубинке своей, какая у него в уголку стояла:
– Ну-ка, – говорит, – покажи им, дубинка, белый свет!
Сказал свое щучье слово, а дубинка как взовьется, как козлекнет из угла, да и давай их строчить по рукам, по головам, старосту и сотников этих. Они – ах, ах, что это, дескать, такое, что дубинка нас по головам кро?я? – да поскорей вон из хаты. Кинулись к становому, к стражникам, он, говорят, нас не слухается, а силой его никак не возьмешь, идите, значит, сами, может, он вас боле почитает, а про дубинку про эту, какая их угощала, понятное дело, молчок. Потом собрались все урядники, стражники и сам становой с ними, староста им указал, где он, Емеля, спасается, они и входят в избу к нему всем гуртом:
– Ну теперь, Емеля-дурачок, мы тебя с солдатами заберем, саблями тебя зарубим, – слезай скорей с печи, надевай зипун на плечи, к допросу отправляйся!
А он опять не слухается, – их полна изба напихалась, а он опять не идет, в углу песенку поет:
Ой, вы, очи, ясные мои очи,
Емеля на расправу итить не хоча!
Они его честью умоляют, а он опять свое, опять эти очи поет. Ну, как они его опять раздражили, он и говорит:
– По щучью по веленью, по моему моленью, – а дубинка эта так и лежит с ним на печке, – ну-ка, – говорит, – дубинка, попотчуй их сахаром!
Та дубинка сейчас вставает и давай их охаживать с головы на голову, станового и стражников, и повыгнала, значит, всех из хаты вон.
– Ну что теперь с ним делать, – становой говорит, – как его нам взять, ребята?
А один стражник и надумайся:
– Давайте, – говорит, – обманом возьмем. Скажем, что тебя сам государь велел пригласить. Он тебе велит всяких пряников медовых надавать. (А он, Емеля, любитель был есть эти пряники и жамки.) Он тебя, мол, досыта накормит, государь-то.
Сговорились так-то, пришли и давай его улещать, волновать. Ну он и согласился. Ну хорошо, говорит, благодарю вас за внимание, ступайте ко двору и не беспокойте себя, – я сам к нему, к государю, поеду.
Они и ушли все от него, а он и приказывает печке:
– Ну-ка, – говорит, – печка, ступай-ка теперь, по моему приказу, к самому к царю во дворец! Про нас с тобой слава до самого царя дошла. Он, государь, обещает меня жамками накормить, а я любитель до них.
Печь сейчас же заворочалась, захрустела, загремела по избе, выпросталась наружу с ним и полетела стрелой, а он развалился на ней, все равно как на пассажирном поезде, на паровозе едет. Подъезжает к государеву дворцу, приказывает царским вратам отворяться и прет прямо на печке на этой к балкону, к крыльцу к главному, а сам шумит, кричит во всю глотку, во всю праведную: «Ой, вы, очи, мои ясные очи!» Часовые слуги бегут, хотят его унять, усовестить, а государь услыхал этот шум-бардак и сам, значит, вместе с дочкой-наследницей на крыльцо выходит:
– Что ты, – говорит, – невежа, тут кричишь, зачем ты, – говорит, – в наши царские покои приехал, чудеса творишь, на печке ездишь? Сказывай, кто ты такой. Ты, верно, Емеля-дурачок?