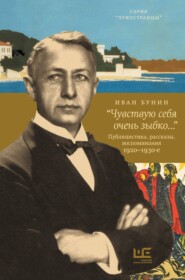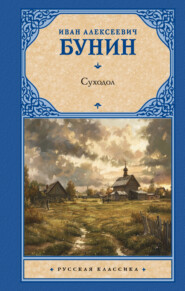По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
У истока дней
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Слушаю-с.
Барин улыбнулся.
– Что это у тебя, Василий, за солдатская привычка: «слушаю-с», – сказал он ласково, как многие из помещиков говорят с кучерами.
Василий растянул рот до ушей в подлую улыбку.
– Каких же запрягать прикажете, Алексей Михалыч?
– Запрягать-то? Я думаю, Василий, – Малиновского в корень… ну… Красавчика на правую пристяжку…
– На правую его не годится, Алексей Михалыч.
– Не годится?
Барин в раздумье поднял брови.
– Ты говоришь, Красавчика не годится? Что так?
– Жмется он, Алексей Михалыч, к оглобле. Как запряг справа – жмется, бог с ним, да и только.
– Жмется, ты говоришь? Ну так запряжешь направо… ну хоть Киргиза. Ведь Киргиз не жмется.
– Боже сохрани! Киргиз – лошадка умная…
– «Боже сохрани»! Ха-ха!.. А знаешь что, Василий? Не лучше ли нам парою?
– Тройкой, Алексей Михалыч, форменней.
– «Форменней»! Ну как знаешь.
– Слушаю-с.
Алексей Михалыч затянулся папироской, тихонько замурлыкал: «Si vous n’avez rien a me dire»[3 - Если вам нечего мне сказать (фр.).], – и, поглядывая на конец уса, сказал:
– Ну так так-то…
– Колокольчики прикажете?
– Твое дело, Василий…
Василий опять осклабился и тихонько вышел.
Боже мой, какой переполох в доме произвел приезд Алексея Михайловича! Из девичьей ринулась Катерина, сгребла в объятия все убогие шубы и шапки гостей и, рискуя рухнуться в коридоре от удара, переволокла их в девичью и бросила на полу; Софья Ивановна тоже бросилась в спальню, к комоду, выдернула ящик, схватила все лучшие салфетки, прибежала в зал, посхватала все старые и моментально разбросала новые на их места, сшвырнула с фортепьяно кошку, так что та, треснувшись об пол, несколько минут сидела как остолбенелая… Затем опять бросилась в переднюю и велела достать из погреба коньяк и маринованную осетрину… В кабинете тоже все повстали с мест и заговорили разом.
– Это Коротаев? – бормотал Уля. – Он, говорят, богатый!
– Коротаев? – быстро спрашивал улан. – Не Якова Семеновича сын?
– Троечка-то какова! – повторял дьякон.
Василий, которому был отдан приказ «оставить холопскую привычку подносить во весь карьер к крыльцу», въезжал во двор медленно и, сдерживая пристяжных, вычурно покрикивал:
– Ше-елишь! Баловай![4 - От слова баловаться. (Примеч. И. А. Бунина)]
Капитон Николаевич сбежал с крыльца и, почему-то поспешно расправляя бакенбарды, несколько раз поклонился и радушно сказал:
– Милости просим! милости просим!
Коротаев сдержанно поклонился, сдержанно сказал: «Поздравляю», – и пошел в дом.
Когда он стал раздеваться, остальные гости вышли из кабинета и остановились около него.
– Простите, пожалуйста, – закартавил Коротаев, – я, знаете, еду в Елец по делу… так что костюм у меня дорожный.
– Помилуйте! – воскликнул Капитон Николаевич.
– Вот глупости какие! – восторженно подхватил Уля. – Мы церемоний не любим…
– Сущие-с пустяки… – начал было дьякон, но покраснел и откашлялся.
Один Бебутов стоял гордо и, покачивая головою, смотрел равнодушно.
Коротаев слегка поклонился всем и вошел в кабинет. Все уселись и замерли как будто в ожидании чего-то. Коротаев оглянулся, едва не рассмеялся и поспешил опять заметить, что он едет в Елец и что костюм на нем дорожный.
Но дорожного в его костюме было мало. На нем были лаковые сапоги, синие шаровары и синяя тужурка со сборками на талии. И костюм этот, должен я сознаться, был очень недурен на нем. Конечно, на Уле он сидел бы не так красиво, но Коротаев был далеко не Уля. Это был плотный, хорошо сложенный мужчина – «одно из славных русских лиц».
Лицо немного полное, упитанное; черты лица правильные, бородка а lа Буланже и губки сердечком. Прибавьте к этому нежные, белые руки и перстень с крупной бирюзой на правом мизинце – и вы поймете, почему Коротаев еще до сих пор производит в любительских спектаклях неотразимое впечатление, которому еще способствовало то, что держал он себя относительно барышень довольно равнодушно. Видно было, что это – мужчина, успокоившийся в сознании своей красоты и безусловной порядочности.
При всем своем желании держаться у Капитона Николаевича попроще, он не мог не фатить, конечно, сдержанно, невольно, фатить только потому, что «привычка – вторая натура».
Он заговорил… и заговорил очень недурно. Коснулся деревенской скуки, упомянул, что озимые плохи и что на земском заседании он думает поставить это на вид, свел разговор на охоту и… слегка зевнул. Потом левой рукой, двумя пальчиками, достал портсигар из бокового кармана, постучал об этот портсигар папиросой, закурил, слегка помахал спичкой и деликатно бросил в пепельницу.
В это время передняя сразу наполнилась смехом и шумом. Приехали с матерью две сестрицы Ульяна Ивановича, еще одна девица, которую Яков Савельевич звал «шавочкою», и два соседа-помещика – Савич, худой и серьезный старик, с седыми, короткими волосами, обладатель сорока пяти десятин, и Баскаков, молодой неглупый человек, очень деловитый хозяин, одетый как железнодорожный рабочий.
Барышни явились очень веселою компаниею, но, глянув в кабинет и увидев там какого-то незнакомого господина, не раздеваясь, на цыпочках прошмыгнули на половину Софьи Ивановны. Старуха, их мать, очень любопытно заглянула в кабинет и тоже сочла за лучшее ретироваться к Софье Ивановне.
Едва успел Капитон Николаевич познакомить Савича и Баскакова с Коротаевым, вошел еще помещик, Телегин, громадный мужчина, в поддевке, длинных сапогах, с кинжалом на поясе.
– А я с охоты, – заговорил он, входя в кабинет и не обращая внимания на Коротаева, – затравить ничего не затравил, но подрался.
– Как подрался? – воскликнул Капитон Николаевич.
– Очень просто… за милую душу… Да как же, еду я по зеленям, смотрю – староста Лопатинский едет навстречу. «По какому такому праву по зеленям? Барин велели ловить!» Каково? Ловить. Как сгреб я его – до земли не допускал!
– Ха-ха! – закатился Уля. – У тебя, брат, мертвая хватка.
– Да уж, брат, сгребу, так не вырвешься.