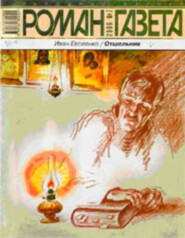По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Седьмая картина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Возвращаться в Синички он теперь не стал, боясь хотя бы еще раз окинуть взглядом выгоревшее сталкеровское болото, а двинулся по лесной просеке объездом, к шоссейной дороге. Просека была малозаснеженной и нетопкой, машина шла по ней ровно, ходко, и Василий Николаевич, ориентируясь на дальний, мерцающий и сквозь деревья огонек, опять понемногу начал оттаивать душой. Но сразу за лесом дорога переменилась, извилисто запетляла то по окраинам заливного луга, то по черноземно-вязким полям. Задумавшись, Василий Николаевич вовремя не переключил скорость и засел в запорошенной снегом колдобине. Вначале он попробовал выбраться враскачку, надеясь на силу и мощь «Нивы», газовал, давил и давил на акселератор, но заднее левое колесо, пробуксовывая, лишь все больше и больше погружалось в чернозем. Пришлось Василию Николаевичу вылезти из машины и, вооружившись лопатой, подкопать снежно-земляное крошево до подмерзлого твердого грунта. Для верности он собрался было сходить еще в недальние посадки, чтоб набрать там какого-либо хвороста, но тут вдруг из-за поворота в сумеречной темноте вылетел прямо на него на всем ходу тяжелый трехосный «Урал». Приняв чуть в сторону от машины Василия Николаевича, он остановился, и из кабины высунулся мужик лет сорока пяти, обветренный, каленый и очень уверенный в себе. Глянув свысока на Василия Николаевича, он белозубо засмеялся и крикнул:
– Стольник дашь – выдерну!
– Спасибо! – сдержанно, но зло ответил Василий Николаевич, дивясь этой совсем не шоферской наглости прокаленного мужика, который может «выдернуть» попавшего в беду собрата лишь за стольник.
– Ну гляди! – еще раз хохотнул тот, проскрежетал сцеплением и помчался дальше, к уже виднеющемуся в прогале между посадок шоссе.
А Василий Николаевич вдруг узнал корыстного этого мужика. Он как раз и есть тот самый Земледелец, бывший секретарь партийной организации, о котором говорила в Синичках бабка Матрена. В прошлые годы Василий Николаевич не раз с ним встречался, приезжая сюда на этюды. Звали его, кажется, Павел Петрович, и был он тогда вальяжно-гладким мужиком, любившим организовывать для заезжих гостей всякого рода застолья. Подвыпив, он, помнится, не раз подбивал Василия Николаевича написать портреты передовиков подопечного ему колхоза. Василий Николаевич, как умел, отбивался, говорил, прикидываясь излишне хмельным, что передовиков не пишет, ему бы что попроще.
– Тогда Тоньку! – хохотал (но не так белозубо, как нынче) Павел Петрович.
Тонька, конторская какая-то служащая, была, по слухам, полюбовницей и зазнобой Павла Петровича. Во всех застольях она принимала самое деятельное участие, хлопотала над выпивкой-закуской, развлекала высоких гостей песнями и танцами, но всегда до определенной черты, потому как помнила, что гости выпьют, закусят и исчезнут, как ночное наваждение, а Павел Петрович останется.
Никакого живописного интереса Тонька у Василия Николаевича не вызывала: была под стать Павлу Петровичу, гладенькой, смазливой, но внутри себя ничего не таила, кроме разве что хитроватого деревенского простодушия. Василий Николаевич отбился и от Тоньки, хотя Павел Петрович, кажется, затаил на него обиду и, совсем уж захмелев, обозвал Шишкиным.
Но то было давно, в другой жизни и в другом времени, а теперь Павел Петрович, поди, человек беспартийный, каленый и носит в окрестных деревнях кличку Земледелец. Тоньку с ее простодушием он, скорее всего, оставил, потому как нынче его такие женщины интересовать не могут. Ему подавай теперь городских, холеных, к примеру, таких, как Даша, которые за деньги на что хочешь пойдут. А Тонька еще сможет по простоте своей деревенской и заартачиться. Ей непременно любовь подавай, чувства, а деньги для нее что – пустота и ветер.
Василий Николаевич Павла Петровича признал, а вот тот, кажется, его запамятовал, и слава Богу, иначе он тут, на бездорожье, разыграл бы комедию покруче, рассчитался бы с Василием Николаевичем за все не написанные им портреты. Бывшие эти партийные секретари народ злопамятный, озлобленный, никак они не могут смириться, что вдруг, в одночасье оказались в дураках со всей своей говорильней и пустозвонством. Впрочем, Павел Петрович, кажется, не такой. Он из той породы и того племени, которые приживутся на любом месте, приспособятся к любым обстоятельствам. Вчера был партийным говоруном, идейным вождем, сегодня переделался, перевоплотился в земледельца, а завтра станет вообще черт знает кем, для собственного благополучия и достатка отца с матерью не пощадит, не то что какой-либо доживающей век бабки Матрены.
Понаблюдав минуты две-три за «Уралом», который, тупорыло, по-бульдожьи подминая под себя пространство, уносился все дальше и дальше к шоссе, Василий Николаевич опять начал подкапывать под колесом лопатою. Потом набросал туда хвороста и несколько увесистых бревен, удачно найденных в посадках. Подмост получился основательный, жесткий, машина должна была за него зацепиться и легко выбраться на твердую колею. Но каково же было удивление Василия Николаевича, когда она снова начала пробуксовывать, и вовсе не потому, что колесо никак не цеплялось за хворост, а потому, что кто-то невидимый и неосязаемый (в этом Василий Николаевич не сомневался) удерживал ее за задний бампер. Причем удерживал без особого усилия, да еще и насмехался над Василием Николаевичем, то чуть отпуская и даже как бы подталкивая «Ниву» вперед, то опять осаживая ее в глубокую черноземную яму. Василий Николаевич высовывался из машины, чтобы посмотреть, кто же это там так не ко времени играется с ним, но в сумеречной темноте никого не видел, зато отчетливо и ясно слышал нахальный, безнаказанный хохоток, чем-то похожий на хохоток только что исчезнувшего Павла Петровича. В сердцах Василий Николаевич метнулся к заднему бамперу, чтоб обнаружить там злоумышленника и схватиться с ним. Но никого возле бампера, конечно, не обнаружилось, хотя снег и земля вокруг машины были порушены, затоптаны какими-то непонятными следами, а на бампере виднелись отпечатки длинных и явно не человеческих пальцев. Лоб у Василия Николаевича покрылся холодным потом, а по всему телу пробежал обжигающий колючий озноб. Все эти преследования и видения становились слишком уж навязчивыми, болезненными. А ведь никогда прежде Василий Николаевич не был им подвержен. Он всегда считался человеком с очень устойчивой психикой, с железными, как про него говорили, нервами и этим по праву гордился. Да и как было не гордиться, когда среди художников столько людей неуравновешенных, мнительных, а то и откровенно свихнувшихся. Чаще всего, правда, от водки и неутоленных амбиций. Он же и водки не пил, и чрезмерно своих возможностей не переоценивал. И вот на тебе – уже не первый раз чудится и мнится ему всякая чертовщина.
Василий Николаевич суеверно затоптал неясные следы своими собственными, протер ветошью бампер, хотел даже было, никем не видимый, осенить и себя, и машину крестным знамением, но потом сдержался, посчитав, что для него, человека не очень верующего, это будет двойным богохульством. Василий Николаевич вполне атеистически про себя усмехнулся и решил бороться с наваждением подручными, вполне материальными средствами. Он еще несколько раз сходил в посадки за хворостом и бревнами, получше и поудачливей подложил их под колесо и все-таки выбрался на твердь. Хотя опять-таки не с первого и не со второго раза, а лишь хорошенько раскачав «Ниву» и отогнав от бампера преследователя горячими выхлопными газами.
– То-то же, – горделиво сказал он, поскорее отъезжая от опасного места. – С нами крестная сила.
В ответ раздался веселый, но все отдаляющийся хохоток. Преследователю и злоумышленнику, должно быть, надоело играться с Василием Николаевичем, и он отпустил его с миром, хотя легко мог и не отпустить, что и слышалось в его насмешливом хохотке.
Избавился и оторвался Василий Николаевич от этого хохотка лишь на шоссе, а до этого на проселочной дороге он все время преследовал его, то забегая далеко вперед машины, то, наоборот, заметно отставая, но чаще всего мчась рядом с разгоряченной «Нивой» или даже залетая внутрь ее.
На шоссе же, в ряду других машин, уже освещенных фарами, он быстро затерялся, исчез, не в силах, должно быть, соревноваться с возросшей их скоростью. Но один раз он все же на несколько мгновений возник снова. В центре Сафонова Василий Николаевич обратил внимание на длинную вереницу краснокирпичных особняков под черепичными и оцинкованными крышами, и особенно на один, за высоким бетонным забором которого ему привиделся тупорылый, бульдожий «Урал» Павла Петровича. И вот именно в это мгновение насмешливый хохоток преследователя опять прорезался с новой, удесятеренной силой и едва не толкнул машину Василия Николаевича прямо под колеса военного, неожиданно возникшего на шоссе тягача.
… Отсиживался дома, обдумывал все случившееся с ним во время поездки Василий Николаевич недели две. Зима совсем уже легла на землю, окутала ее снегами, сковала морозами, завьюжила частыми декабрьскими метелями. В такую погоду хорошо сидеть в мастерской, писать, поглядывая в окошко, какой-нибудь неприметный городской пейзаж с заснеженными тротуарами и крышами, гонять крепкие чаи и кофе, а в перерывах почитывать что-либо для души, для сердца, не раз уже прежде читанное, знакомое. Но Василию Николаевичу не писалось и не читалось. В мастерскую он ни разу даже не заглянул, а сидел безвылазно дома и все думал, думал и думал и никак не мог понять, что же это за происшествие случилось с ним в Синичках и Ивановой Слободе, почему там не встретилось ему ни одного человека, достойного быть изображенным на седьмой его картине, а попадались одни лишь пожарища, поруха да окаянный, похожий на коршуна и ворона Земледелец?!
В немоте и отчаянии встретил Василий Николаевич и Новый год, и Рождество, а вот в самый канун Крещенья вдруг встрепенулся, сбросил с себя дремоту и слабоволие и помчался по зимней накатанной дороге в юго-западные районы области, где у него раньше тоже было немало приметных мест и приметных людей. Что послужило причиной такой бодрости и такой жажды деятельности, Василий Николаевич объяснить не мог, но чувствовал себя совершенно излечившимся от меланхолии и неверия. Внутри его как будто вдруг пробудился и заново ожил тот прежний, молодой Василий Николаевич, который никогда не знал отчаяния и уныния, потому что всегда верил в свои силы, как верит любой крестьянин, иначе как же ему крестьянствовать, как пахать землю, сеять, как выращивать на ней урожай?!
Целую неделю в возбужденном, горячечном состоянии мотался Василий Николаевич по утопающим в снегу юго-западным районам, ночевал в крошечных районных гостиницах, у давних своих знакомых и просто у случайных людей, которые без особых нареканий принимали его на постой. Вся машина была забита у Василия Николаевича набросками, и он почти уже ликовал: ведь два или три из них были по-настоящему удачными и сами просились на холст.
На юго-западе ему нигде не встретилось ни пожарищ, ни сколько-нибудь заметных разрушений, как будто там, по сравнению с северными заброшенными деревнями, была какая-то совсем иная жизнь, а то и иная страна. И он до усталости и ломоты в запястьях все рисовал, рисовал и эту страну, торопясь как можно достоверней и ярче запечатлеть первозданно чистый ее заснеженный покров, и первозданно обновленных ее людей.
Но дома, в мастерской, развернув все свои наброски и этюды, он вдруг с ужасом обнаружил, что ничего пригрезившегося ему в юго-западных районах на них нет и в помине. Все было серо, уныло и разрушено (а в одном месте даже мелькнули следы пожара). Но больше всего Василия Николаевича удручали человеческие лица. Такой темноты, такой забитости и безверия он нигде прежде не встречал. В душе у него вспыхнуло жестокое подозрение: да он ли все это увидел и изобразил! Или, может быть, кто-то невидимый и тайный по злому умыслу подменил ему работы. Подозрение тут же сменилось отчаянием, и Василий Николаевич, не сумев сдержать себя, изорвал на мелкие куски все планшеты, а потом для верности еще и бросил их в горящий камин. Наброски и этюды быстро занялись желто-оранжевым бездымным огнем, обуглились и начали исчезать в дымоходе безжизненно мертвыми, прямо на глазах превращающимися в пепел клоками. И вот когда последний из них унесся в узкий сажево-черный дымоход, оттуда, из-под самого потолка, где находилась вьюшка, вдруг раздался такой знакомый уже Василию Николаевичу хохоток. Он не смог перенести его, схватил попавшуюся в руки палитру, запустил ею в дымоход и вьюшку, а сам в изнеможении упал на диван и пролежал на нем, кажется, несколько суток…
На Василия Николаевича опять навалились уныние и безразличие ко всему на свете. Но теперь он был уже поопытней и знал, что через неделю-другую они закончатся, надо только научиться терпеть, выжидать и не делать никаких глупостей.
И вскоре терпение его действительно было вознаграждено. Болезнь Василия Николаевича прошла как бы сама собой, без всяких последствий и осложнений. Он опять чувствовал себя бодро и уверенно и тут же решил воспользоваться этой уверенностью, завел машину и помчался во весь опор в недальнее пригородное поле, где еще по осени приметил одинокую сторожевую березу. День выдался морозным, солнечным, но тихим и безветренным, как раз таким, каким Василий Николаевич и собирался запечатлеть его на картине. Снега вдоль шоссе покрылись крепким, отливающим синевой настом, и береза на фоне этого наста должна была смотреться по-особому величественно.
Свернув с шоссе на санную проселочную дорогу, Василий Николаевич переобулся в валенки, надел поверх легенькой дубленки просторный армейский тулуп, специально когда-то купленный им для таких вот зимних походов, и с этюдником в руках стал подниматься на заметно высокий крутой взгорок, за которым простиралось широкое равнинное поле с растущей посередине его березой. В зимнем тяжелом одеянии недолгий этот (как ему казалось по осени) путь дался Василию Николаевичу с трудом. Несколько раз он вынужден был и останавливаться, чтоб перевести дыхание и переменить руки, но все это, конечно, ничего не значило и нисколько не влияло на настроение Василия Николаевича. Он был уже весь во власти предстоящей работы, в сладостном порыве вдохновения, и все мелкие неудобства и преграды казались просто смешными. Не доходя двух-трех шагов до вершины, Василий Николаевич решил отдышаться в последний раз, чтоб после, уже на спуске и приближении к березе, больше не останавливаться и не терять времени. Яркое февральское солнце, вынырнув из-за бугорка, резко слепило Василию Николаевичу глаза, и он несколько мгновений стоял с покаянно опущенной головой, привыкая к снежно-искристому его сиянию. С самого раннего детства Василий Николаевич очень любил такие вот солнечные морозно-яркие дни, когда из тела и души безвозвратно уходят вялость и лень, а вместе с ними и скудные, ничтожные мысли. В такие дни тебя одолевает неутолимая жажда деятельности, движения; тело твое, как никогда крепкое и мужественное, требует настоящей мужской работы где-нибудь в поле, в лесу или в лугах, а мысли, под стать солнцу и морозу, ясные и чистые, постоянно влекут тебя к красоте и радости жизни, отвергая все суетное и мелочное. Надо только не побояться выйти из душной, пропыленной квартиры на свежий воздух и бодрящий мороз, где без движения и работы ты просто погибнешь.
Дыхание у Василия Николаевича выровнялось, окрепло, и он стремительно и напористо сделал два последних шага на вершину бугорка, в радостном предощущении того, как же легко ему будет спускаться вниз по твердому синеватому насту. И вдруг Василий Николаевич в испуге замер: сколько хватал глаз, перед ним простиралось широкое, занесенное снегом поле, с правой стороны окаймленное едва видимым темно-густым лесом, а с левой пустынно-голое до самого горизонта, – но березы на этом поле не было. Василий Николаевич вначале этому не поверил и стал лихорадочно оглядываться вокруг, сверяя запавшие ему в память приметы, пугаться еще больше и спрашивать у самого себя: может быть, он не туда заехал, перепутал дорогу и направление. Но минуту спустя, уже более спокойно осмотрев все окрест, он твердо укрепился в мысли, что ничего не перепутал, нигде в дороге не ошибся – это было именно то самое поле с призрачно видимым лесом по правую сторону, и вон там, на самой его середине, осенью стояла береза, которая столько раз грезилась Василию Николаевичу на заднем плане его седьмой картины. Кому она тут посреди поля могла помешать, кому могла понадобиться (на дрова ли, на корявые, сучковатые доски), Бог его знает, но вот же кому-то помешала и кому-то понадобилась. Разумнее всего Василию Николаевичу, наверное, надо было повернуть назад, чтоб попусту больше не расстраиваться, не распалять себя, но он все-таки начал спускаться вниз, к тому месту, где она когда-то росла и теперь от нее осталось одно лишь корневище. Василию Николаевичу захотелось посмотреть хотя бы на него, посчитать на свежем, не успевшем еще потемнеть срезе годовые кольца – и тем утешиться.
Но даже этого призрачного утешения ему не было суждено испытать. Вместо корневища и среза он увидел глубокую, занесенную снегом воронку, образованную немалым, должно быть, взрывом. Был ли он произведен по какой-либо хозяйственной нужде и потребности или по чьей-то прихоти, злому умыслу, а то и по глупому озорству, теперь уже значения не имело, – но от белоствольной, в самом расцвете и жизненной крепости березы не осталось и следа. Растерзанный ее ствол, наверное, увез на дрова какой-либо расторопный мужичок из местных шоферов или трактористов, а непригодные даже на растопку ветки занесло частью еще землей во время взрыва, а частью снегом, и Василий Николаевич вправе был теперь подумать, что она действительно всего лишь пригрезилась ему…
Утопая в снегу, Василий Николаевич стал безоглядно уходить назад к машине, но почему-то не по своим прежним следам, а окрест взгорка, по пустому равнинному полю, и вот тут его опять настиг злонамеренный, торжествующий хохоток незримого преследователя. Василий Николаевич с замершим сердцем, преодолев немалый свой страх и подозрения, наконец оглянулся и на склоне воронки в снежном мареве и синеве ясно и отчетливо увидел какую-то зыбкую, не совсем как бы даже и человеческую фигуру. Он поспешно отвернулся и хотел было побежать к спасительно виднеющейся на санной дороге машине, но, обутый в тяжелые негнущиеся валенки, оступился, упал и никак не мог подняться, путаясь в длиннополом тулупе и все глубже проваливаясь в снег. Одно было хорошо – что на земле и снегу, в острорежущем насте хохот преследователя казался Василию Николаевичу не таким злонамеренным и торжествующим, а вскоре и вовсе затих, хотя фигура все еще и продолжала маячить над оврагом, как будто ей было интересно узнать и увидеть, поднимется Василий Николаевич на ноги или не поднимется, так навсегда и оставшись лежать распластанным на краю поля…
Как поднялся со снега и как приехал в город, Василий Николаевич не помнил. Осознал он себя лишь через несколько дней крепко пьющим, и не у себя в квартире, не в мастерской, а дома у Даши. Он сидел за столом, уставленным всевозможными яствами, выпивками и закусками, в новомодном своем заграничном костюме, при бабочке и карманных золотых часах, как оказалось, подаренных ему Дашей. Квартира была богатой, причудливо (но безвкусно) обставленной, с какими-то атласно-бархатными шторами до самого пола, за которыми Василию Николаевичу постоянно чудились посторонние, не живущие в этой квартире люди. Он несколько раз говорил об этом Даше, просил ее выгнать из-за штор и из квартиры подозрительных, неизвестно как проникших сюда соглядатаев. В ответ Даша бесстыже садилась ему на колени, сладострастно обнимала, подносила бокал вина и, когда Василий Николаевич его выпивал, начинала полупьяно безудержно смеяться:
– Да нет там никого, художник!
Это ее ехидно-небрежительное «художник» обижало и оскорбляло Василия Николаевича. Он грубо отталкивал Дашу, сам шел к шторам проверить, есть ли там кто или нет, а потом вдруг мгновенно трезвел и начинал вспоминать, рассказал он или нет в пьяном бреду Даше о седьмой своей картине, о том, что писать такую картину русскому художнику грешно и святотатственно. И вот Бог его и наказывает за это и немощью, и пьянством, и пышнотелой нахально-вкрадчивой Дашей. Временами он был почти уверен, что рассказал, иначе с чего бы это Даше так ехидно похохатывать и посмеиваться над ним, прозывая за каждым словом «художником» и все подливая и подливая в бокал вина. Василий Николаевич смотрел на нее тяжелым, угрюмым взглядом, но от вина не отказывался, пил и хотел еще выпить, чтоб окончательно опьянеть и уснуть прямо за столом. Но Даша ему этого не позволяла, заботливо вела к белоснежной своей, немыслимых размеров кровати, терпеливо раздевала и укладывала под одеяло, несмотря на его грубое сопротивление и грубые слова.
Когда же Василий Николаевич просыпался и опять неведомо каким образом оказывался за столом в костюме, при бабочке и пошло-купеческих карманных часах, а Даша, услужливая и расторопно-веселая, обнаруживалась рядом с ним, он в мельчайших подробностях вспоминал все проведенные с ней дни и ночи и успокаивал себя – нет, не рассказал. Да и не мог рассказать, потому как никакого греха и святотатства за собой не чувствовал. Он художник и может писать любые картины, под любым названием и за любой гонорар – это никого не касается и не должно касаться, это его личное, неподсудное и неподвластное другим людям дело. А раз так, то и каяться ему незачем и не перед кем! Да и Даша после пьяного его покаяния вела бы себя совсем по-другому, не похохатывала бы, не посмеивалась бы над минутной, временной слабостью Василия Николаевича, а вполне трезво и расчетливо вызнала бы у него всю предельную сумму гонорара, хорошо опохмелила и сама отвезла бы в мастерскую к мольберту, кистям и краскам, почувствовав над ним роковую свою женскую силу и власть, которые при умелом владении ими могут обернуться немалыми посулами и наградами. Во всяком случае, намного большими, чем те, которые она зарабатывает в «Русской тройке» вакхическими своими танцами.
… Трезвые эти и все чаще повторяющиеся прозрения постепенно начали выводить Василия Николаевича из затяжного его, длившегося на этот раз почти полтора месяца затмения. И вот по весне, когда на деревьях не только набухли, но уже и распустились первые почки, он самым натуральным образом убежал от Даши.
Силы и здравый рассудок к нему быстро вернулись, Василий Николаевич окреп и душой и телом и теперь, изредка лишь вспоминая приключившееся с ним у Даши наваждение, снисходительно усмехался и задавался хотя и безответным, но тоже вполне смешным вопросом: «Надо же!»
К концу апреля, к Страстной, просветляющей сердце и душу неделе, Василий Николаевич почувствовал себя совсем хорошо, подготовил машину и поехал за город по весенним, обновленным дорогам. Никакого, заранее разработанного и заготовленного плана у него на этот раз не было, он просто решил выехать в поля и просторы лишь затем, чтоб подышать чистым апрельским воздухом, посмотреть, как возрождаются к новой жизни леса, луга и придорожные сады, и самому тоже возродиться, теперь, разумеется, окончательно и бесповоротно.
И, может быть, именно потому, что у него не было никаких заведомо намеченных планов и задумок, Василия Николаевича вдруг настигла удача.
Проезжая через одну из деревень (Василий Николаевич даже не запомнил ее название), он неожиданно увидел возле окраинного дома молодую, по-русски статную и по-русски неброско красивую женщину. На руках она держала годовалого светловолосого ребенка, который, засыпая, крепко обнимал ее за шею, и смотрела куда-то вдаль, на дорогу, уходящую в поля и незримо там теряющуюся за горизонтом. Казалось, она ожидала появления оттуда кого-то очень ей с сыном желанного, дорогого – любимого и любящего, – ждала и никак не могла дождаться. Солнце, поднявшееся высоко в зенит, почти отвесно освещало ее лицо, и Василий Николаевич вдруг не столько увидел, сколько ощутил на этом ее просветленном лице такое непостижимое предчувствие страданий, такое нечеловеческое терпение и такую надежду, что в изумлении вздрогнул и, стыдясь всех прежних своих торопливых восторгов, с печалью и резкой болью в груди подумал: да неужели у нас в России еще могут быть такие лица?! Он осторожно, боясь вспугнуть женщину, остановил машину у обочины (впрочем, она не обратила на нее никакого внимания, не выделила в потоке других машин) и лихорадочно, с непривычной дрожью в руках стал делать набросок, стал запоминать игру света и тени на лицах женщины и ребенка, зная, что их придется, в нарушение всех прежних своих привычек и обещаний, писать по памяти. Ведь не заставит же он эту женщину еще раз, ради только того, чтобы быть написанной на картине, выйти с ребенком на руках на дорогу, застыть в долгом и, наверное, уже почти непереносимом для нее ожидании и испытать те же чувства, которые она испытывает сейчас. Это было уже не искусство, это была такая первозданная и первородная жизнь, перед которой любая кисть, любое перо бессильны, а любой художник или сочинитель готов упасть в отчаяние от невозможности воплотить на холсте или выразить в словах хотя бы самую малую частичку открывшейся перед ним жизни.
Но Василий Николаевич не упал. Закончив набросок, он помчался сколько было силы в нем и в машине в город, почти не видя перед собой дороги и все время держа в памяти лицо женщины и ее так не по-детски утомленно засыпающего сына, который почему-то казался Василию Николаевичу глубоко обиженным жизнью, несчастным, скорее всего, сиротой.
Лихорадочно-возбужденное состояние Василия Николаевича в мастерской еще больше усилилось, вызвав такой прилив (почти приступ) вдохновения и такую страсть к работе, которой он не испытывал уже многие годы. В портрете, в фигуре женщины Василию Николаевичу все удалось с первого раза, свет и тень легли на холст точно так, как он увидел их там, в безымянной деревеньке, и как сумел довезти, сохранить в памяти. Он работал весь остаток дня и всю ночь при ярком свете юпитеров, и работал не столько карандашом и кистью, сколько душой и сердцем, воспаленной и все больше воспаляющейся мыслью.
Лишь в предрассветные часы он дал себе небольшую передышку, уснул на диване болезненным, чутким сном, намереваясь продолжить работу с первыми лучами солнца. Но когда оно взошло и залило мастерскую ярким, вызывающим глазную боль светом, Василий Николаевич долго не подходил к холсту, боялся, что все на нем неудачно, не так, как было задумано и увидено на деревенском раздорожье. Он несколько часов лежал на диване, притворяясь спящим, удерживая себя обманной мыслью, что при таком резком утреннем солнце смотреть холст нельзя – он будет слишком отсвечивать, и это свечение не позволит Василию Николаевичу беспристрастно оценить свою работу. Он ждал двенадцати часов. Вернее, двенадцати часов и двух минут. В мастерской Василия Николаевича была одна особенность. Солнце, ярко и резко заливавшее ее с утра, клонилось в сторону ровно в двенадцать часов и две минуты. И именно в эти минуты оно наиболее выгодно освещало мольберт и установленную на нем картину. Василий Николаевич хорошо это знал и если приглашал кого посмотреть на очередную свою работу, то непременно к двенадцати и двум минутам, чтоб посетитель и оценщик могли взглянуть на полотно в момент ухода солнца.
Сегодня таким оценщиком был сам Василий Николаевич. Он терпеливо дождался намеченного срока, когда солнце, прячась за домом, пригасило обжигающе-яркие свои лучи, и тут же стремительно поднялся, подошел к холсту, дрожащей рукой откинул прикрывающую его занавеску – и не смог сдержать ликования: все было так, как мыслилось и виделось, и даже лучше, – фигура женщины, преданно, но безнадежно ожидающей возвращения (или прихода) желанного, дорогого – любимого и любящего, – способного охранить и защитить ее человека, становилась теперь центральной фигурой и центральной мыслью всей картины.
Когда приступ восторга и ликования прошел, Василий Николаевич, ничего больше не поправляя в фигуре женщины (чувство меры и на этот раз не изменило ему), принялся писать березу, образ которой, оказывается, тоже хранил в памяти до мельчайших подробностей. Поначалу удача и тут ему сопутствовала: береза проступала на холсте по-саврасовски печальная и терпеливая, еще не предчувствующая своего последнего дня. Но потом вдруг все испортилось, перестало ладиться и получаться. Надо было, конечно, остановиться, передохнуть, и, возможно, даже не день, не два, а несколько недель, а то и месяцев. Душа Василия Николаевича переутомилась, перегорела во время работы над фигурой женщины и теперь требовала успокоения и долгого времени для накопления новых сил. Но Василий Николаевич никак не мог остановиться: во-первых, ему казалось, что если он сейчас остановится, то больше никогда такого вдохновения не обретет, не испытает, а значит, и не сумеет написать такую очень важную для него во всем замысле часть картины с прежней силой и страстью; во-вторых же, он совсем не ко времени вдруг вспомнил, что до отмеренного ему заказчиком первого контрольного срока осталось не так уж и много, всего два-три месяца, и надо поторапливаться, потому как не годится ему, столь уважаемому заказчиком и уважающему себя художнику, нарушать данное однажды слово.
И вот стечение этих двух обстоятельств, двух причин в конце концов и привели к тому, что все в работе Василия Николаевича разладилось, пошло на убыль. И мало того, что разладилось в работе, так еще и разладилось в душе: вдохновение час за часом стало покидать его, уходить, словно в песок, и к вечеру безвозвратно иссякло. В порыве гнева и отчаяния Василий Николаевич счистил мастихином подмалевок березы и даже занес было руку над фигурой женщины, оправдывая этот свой поступок тем, что раз не получается одно, то нечего хранить и самодовольно восхищаться другим. Но в это мгновение на антресолях, где у Василия Николаевича хранились старые эскизы и наброски, вдруг раздался так уже знакомый ему и так ненавистный хохоток. Что значил этот хохоток сейчас, в столь тяжелую для Василия Николаевича минуту, понять было никак невозможно: то ли преследователь потешался над его бессилием и творческой немощью, то ли упрямо подталкивал к безрассудному, губительному поступку – все-таки счистить с холста портрет женщины. В охватившем его исступлении Василий Николаевич готов был согласиться и с тем, и с другим (и наверное согласился бы), но, взглянув еще раз на портрет (в последний раз, как успел подумать Василий Николаевич), он вдруг встретился с женщиной взглядом – и отпрянул от картины: женщина смотрела на него истинно живыми, укоризненными глазами, и Василий Николаевич не смог вынести этой ее укоризны, бросил к подножью картины мастихин и убежал из мастерской, оставив решать судьбу холста тому, прячущемуся и хохочущему на антресолях.
… И опять Василий Николаевич очутился и обрел себя у Даши, в ее роскошной, аляповато обставленной квартире, в ее вкрадчиво-обманных объятиях. Все повторилось почти в точности, как и в прошлый раз: Даша ластилась к нему, похохатывая, обзывала «художником», щедро подносила вино и водку, а когда Василий Николаевич напивался и требовал выгнать из-за шторы скрывающегося там преследователя, вела к белоснежно расстеленной кровати и укладывала спать. Разница была лишь в том, что теперь водку, вино, дорогостоящие диковинные какие-то закуски и такие же дорогостоящие цветы, к которым Даша оказалась подозрительно неравнодушной, она покупала не за свой счет, а требовала оплачивать все расходы Василия Николаевича. Причем делала это удивительно искусно и великосветски тонко, постоянно внушая Василию Николаевичу мысль, что настоящий мужчина должен быть мужчиной во всем и не унижать женщину нищетой и бедностью. Василий Николаевич торжественно согласился с этой бесспорно правильной мыслью, взял Дашу под свое мужское покровительство и опеку и по-царски, по-королевски одарил ее всеми, какие только были у него с собой, деньгами и пообещал одарить еще, лишь бы она сейчас не оставляла его одного, потому что один он никак не справится с тем, кто прячется за шторой.
Сколько дней и ночей на этот раз он торжествовал, безрассудно отстранившись от мелочных своих забот живописца в доме у Даши, Василий Николаевич определить был не в силах. Ему хорошо было ничего не знать и не понимать, не видеть мольбертов и холстов, не ощущать запахов красок и лаков. А когда человеку хорошо, то зачем же он станет прерывать течение этого хорошего, счастливого времени.
И Василий Николаевич не прерывал. Вернее, почти не прерывал. Потому что однажды Даша велела ему привести себя в порядок, хорошо выбриться, погладить костюм и пойти в мастерскую.
– Зачем? – с удивлением посмотрел на нее Василий Николаевич.
– Тебя там ждут, – обвилась вокруг него Даша. – Сходи.
– Ну, если ты хочешь, – ответно поцеловал ее Василий Николаевич, – то схожу.
Пешком ему идти, конечно, не довелось, хотя Василий Николаевич и не против был прогуляться немного по городу. Даша подвезла его к мастерской на своей лаково сияющей иномарке, еще раз поцеловала и напутствовала:
– Будь умницей.
– Стольник дашь – выдерну!
– Спасибо! – сдержанно, но зло ответил Василий Николаевич, дивясь этой совсем не шоферской наглости прокаленного мужика, который может «выдернуть» попавшего в беду собрата лишь за стольник.
– Ну гляди! – еще раз хохотнул тот, проскрежетал сцеплением и помчался дальше, к уже виднеющемуся в прогале между посадок шоссе.
А Василий Николаевич вдруг узнал корыстного этого мужика. Он как раз и есть тот самый Земледелец, бывший секретарь партийной организации, о котором говорила в Синичках бабка Матрена. В прошлые годы Василий Николаевич не раз с ним встречался, приезжая сюда на этюды. Звали его, кажется, Павел Петрович, и был он тогда вальяжно-гладким мужиком, любившим организовывать для заезжих гостей всякого рода застолья. Подвыпив, он, помнится, не раз подбивал Василия Николаевича написать портреты передовиков подопечного ему колхоза. Василий Николаевич, как умел, отбивался, говорил, прикидываясь излишне хмельным, что передовиков не пишет, ему бы что попроще.
– Тогда Тоньку! – хохотал (но не так белозубо, как нынче) Павел Петрович.
Тонька, конторская какая-то служащая, была, по слухам, полюбовницей и зазнобой Павла Петровича. Во всех застольях она принимала самое деятельное участие, хлопотала над выпивкой-закуской, развлекала высоких гостей песнями и танцами, но всегда до определенной черты, потому как помнила, что гости выпьют, закусят и исчезнут, как ночное наваждение, а Павел Петрович останется.
Никакого живописного интереса Тонька у Василия Николаевича не вызывала: была под стать Павлу Петровичу, гладенькой, смазливой, но внутри себя ничего не таила, кроме разве что хитроватого деревенского простодушия. Василий Николаевич отбился и от Тоньки, хотя Павел Петрович, кажется, затаил на него обиду и, совсем уж захмелев, обозвал Шишкиным.
Но то было давно, в другой жизни и в другом времени, а теперь Павел Петрович, поди, человек беспартийный, каленый и носит в окрестных деревнях кличку Земледелец. Тоньку с ее простодушием он, скорее всего, оставил, потому как нынче его такие женщины интересовать не могут. Ему подавай теперь городских, холеных, к примеру, таких, как Даша, которые за деньги на что хочешь пойдут. А Тонька еще сможет по простоте своей деревенской и заартачиться. Ей непременно любовь подавай, чувства, а деньги для нее что – пустота и ветер.
Василий Николаевич Павла Петровича признал, а вот тот, кажется, его запамятовал, и слава Богу, иначе он тут, на бездорожье, разыграл бы комедию покруче, рассчитался бы с Василием Николаевичем за все не написанные им портреты. Бывшие эти партийные секретари народ злопамятный, озлобленный, никак они не могут смириться, что вдруг, в одночасье оказались в дураках со всей своей говорильней и пустозвонством. Впрочем, Павел Петрович, кажется, не такой. Он из той породы и того племени, которые приживутся на любом месте, приспособятся к любым обстоятельствам. Вчера был партийным говоруном, идейным вождем, сегодня переделался, перевоплотился в земледельца, а завтра станет вообще черт знает кем, для собственного благополучия и достатка отца с матерью не пощадит, не то что какой-либо доживающей век бабки Матрены.
Понаблюдав минуты две-три за «Уралом», который, тупорыло, по-бульдожьи подминая под себя пространство, уносился все дальше и дальше к шоссе, Василий Николаевич опять начал подкапывать под колесом лопатою. Потом набросал туда хвороста и несколько увесистых бревен, удачно найденных в посадках. Подмост получился основательный, жесткий, машина должна была за него зацепиться и легко выбраться на твердую колею. Но каково же было удивление Василия Николаевича, когда она снова начала пробуксовывать, и вовсе не потому, что колесо никак не цеплялось за хворост, а потому, что кто-то невидимый и неосязаемый (в этом Василий Николаевич не сомневался) удерживал ее за задний бампер. Причем удерживал без особого усилия, да еще и насмехался над Василием Николаевичем, то чуть отпуская и даже как бы подталкивая «Ниву» вперед, то опять осаживая ее в глубокую черноземную яму. Василий Николаевич высовывался из машины, чтобы посмотреть, кто же это там так не ко времени играется с ним, но в сумеречной темноте никого не видел, зато отчетливо и ясно слышал нахальный, безнаказанный хохоток, чем-то похожий на хохоток только что исчезнувшего Павла Петровича. В сердцах Василий Николаевич метнулся к заднему бамперу, чтоб обнаружить там злоумышленника и схватиться с ним. Но никого возле бампера, конечно, не обнаружилось, хотя снег и земля вокруг машины были порушены, затоптаны какими-то непонятными следами, а на бампере виднелись отпечатки длинных и явно не человеческих пальцев. Лоб у Василия Николаевича покрылся холодным потом, а по всему телу пробежал обжигающий колючий озноб. Все эти преследования и видения становились слишком уж навязчивыми, болезненными. А ведь никогда прежде Василий Николаевич не был им подвержен. Он всегда считался человеком с очень устойчивой психикой, с железными, как про него говорили, нервами и этим по праву гордился. Да и как было не гордиться, когда среди художников столько людей неуравновешенных, мнительных, а то и откровенно свихнувшихся. Чаще всего, правда, от водки и неутоленных амбиций. Он же и водки не пил, и чрезмерно своих возможностей не переоценивал. И вот на тебе – уже не первый раз чудится и мнится ему всякая чертовщина.
Василий Николаевич суеверно затоптал неясные следы своими собственными, протер ветошью бампер, хотел даже было, никем не видимый, осенить и себя, и машину крестным знамением, но потом сдержался, посчитав, что для него, человека не очень верующего, это будет двойным богохульством. Василий Николаевич вполне атеистически про себя усмехнулся и решил бороться с наваждением подручными, вполне материальными средствами. Он еще несколько раз сходил в посадки за хворостом и бревнами, получше и поудачливей подложил их под колесо и все-таки выбрался на твердь. Хотя опять-таки не с первого и не со второго раза, а лишь хорошенько раскачав «Ниву» и отогнав от бампера преследователя горячими выхлопными газами.
– То-то же, – горделиво сказал он, поскорее отъезжая от опасного места. – С нами крестная сила.
В ответ раздался веселый, но все отдаляющийся хохоток. Преследователю и злоумышленнику, должно быть, надоело играться с Василием Николаевичем, и он отпустил его с миром, хотя легко мог и не отпустить, что и слышалось в его насмешливом хохотке.
Избавился и оторвался Василий Николаевич от этого хохотка лишь на шоссе, а до этого на проселочной дороге он все время преследовал его, то забегая далеко вперед машины, то, наоборот, заметно отставая, но чаще всего мчась рядом с разгоряченной «Нивой» или даже залетая внутрь ее.
На шоссе же, в ряду других машин, уже освещенных фарами, он быстро затерялся, исчез, не в силах, должно быть, соревноваться с возросшей их скоростью. Но один раз он все же на несколько мгновений возник снова. В центре Сафонова Василий Николаевич обратил внимание на длинную вереницу краснокирпичных особняков под черепичными и оцинкованными крышами, и особенно на один, за высоким бетонным забором которого ему привиделся тупорылый, бульдожий «Урал» Павла Петровича. И вот именно в это мгновение насмешливый хохоток преследователя опять прорезался с новой, удесятеренной силой и едва не толкнул машину Василия Николаевича прямо под колеса военного, неожиданно возникшего на шоссе тягача.
… Отсиживался дома, обдумывал все случившееся с ним во время поездки Василий Николаевич недели две. Зима совсем уже легла на землю, окутала ее снегами, сковала морозами, завьюжила частыми декабрьскими метелями. В такую погоду хорошо сидеть в мастерской, писать, поглядывая в окошко, какой-нибудь неприметный городской пейзаж с заснеженными тротуарами и крышами, гонять крепкие чаи и кофе, а в перерывах почитывать что-либо для души, для сердца, не раз уже прежде читанное, знакомое. Но Василию Николаевичу не писалось и не читалось. В мастерскую он ни разу даже не заглянул, а сидел безвылазно дома и все думал, думал и думал и никак не мог понять, что же это за происшествие случилось с ним в Синичках и Ивановой Слободе, почему там не встретилось ему ни одного человека, достойного быть изображенным на седьмой его картине, а попадались одни лишь пожарища, поруха да окаянный, похожий на коршуна и ворона Земледелец?!
В немоте и отчаянии встретил Василий Николаевич и Новый год, и Рождество, а вот в самый канун Крещенья вдруг встрепенулся, сбросил с себя дремоту и слабоволие и помчался по зимней накатанной дороге в юго-западные районы области, где у него раньше тоже было немало приметных мест и приметных людей. Что послужило причиной такой бодрости и такой жажды деятельности, Василий Николаевич объяснить не мог, но чувствовал себя совершенно излечившимся от меланхолии и неверия. Внутри его как будто вдруг пробудился и заново ожил тот прежний, молодой Василий Николаевич, который никогда не знал отчаяния и уныния, потому что всегда верил в свои силы, как верит любой крестьянин, иначе как же ему крестьянствовать, как пахать землю, сеять, как выращивать на ней урожай?!
Целую неделю в возбужденном, горячечном состоянии мотался Василий Николаевич по утопающим в снегу юго-западным районам, ночевал в крошечных районных гостиницах, у давних своих знакомых и просто у случайных людей, которые без особых нареканий принимали его на постой. Вся машина была забита у Василия Николаевича набросками, и он почти уже ликовал: ведь два или три из них были по-настоящему удачными и сами просились на холст.
На юго-западе ему нигде не встретилось ни пожарищ, ни сколько-нибудь заметных разрушений, как будто там, по сравнению с северными заброшенными деревнями, была какая-то совсем иная жизнь, а то и иная страна. И он до усталости и ломоты в запястьях все рисовал, рисовал и эту страну, торопясь как можно достоверней и ярче запечатлеть первозданно чистый ее заснеженный покров, и первозданно обновленных ее людей.
Но дома, в мастерской, развернув все свои наброски и этюды, он вдруг с ужасом обнаружил, что ничего пригрезившегося ему в юго-западных районах на них нет и в помине. Все было серо, уныло и разрушено (а в одном месте даже мелькнули следы пожара). Но больше всего Василия Николаевича удручали человеческие лица. Такой темноты, такой забитости и безверия он нигде прежде не встречал. В душе у него вспыхнуло жестокое подозрение: да он ли все это увидел и изобразил! Или, может быть, кто-то невидимый и тайный по злому умыслу подменил ему работы. Подозрение тут же сменилось отчаянием, и Василий Николаевич, не сумев сдержать себя, изорвал на мелкие куски все планшеты, а потом для верности еще и бросил их в горящий камин. Наброски и этюды быстро занялись желто-оранжевым бездымным огнем, обуглились и начали исчезать в дымоходе безжизненно мертвыми, прямо на глазах превращающимися в пепел клоками. И вот когда последний из них унесся в узкий сажево-черный дымоход, оттуда, из-под самого потолка, где находилась вьюшка, вдруг раздался такой знакомый уже Василию Николаевичу хохоток. Он не смог перенести его, схватил попавшуюся в руки палитру, запустил ею в дымоход и вьюшку, а сам в изнеможении упал на диван и пролежал на нем, кажется, несколько суток…
На Василия Николаевича опять навалились уныние и безразличие ко всему на свете. Но теперь он был уже поопытней и знал, что через неделю-другую они закончатся, надо только научиться терпеть, выжидать и не делать никаких глупостей.
И вскоре терпение его действительно было вознаграждено. Болезнь Василия Николаевича прошла как бы сама собой, без всяких последствий и осложнений. Он опять чувствовал себя бодро и уверенно и тут же решил воспользоваться этой уверенностью, завел машину и помчался во весь опор в недальнее пригородное поле, где еще по осени приметил одинокую сторожевую березу. День выдался морозным, солнечным, но тихим и безветренным, как раз таким, каким Василий Николаевич и собирался запечатлеть его на картине. Снега вдоль шоссе покрылись крепким, отливающим синевой настом, и береза на фоне этого наста должна была смотреться по-особому величественно.
Свернув с шоссе на санную проселочную дорогу, Василий Николаевич переобулся в валенки, надел поверх легенькой дубленки просторный армейский тулуп, специально когда-то купленный им для таких вот зимних походов, и с этюдником в руках стал подниматься на заметно высокий крутой взгорок, за которым простиралось широкое равнинное поле с растущей посередине его березой. В зимнем тяжелом одеянии недолгий этот (как ему казалось по осени) путь дался Василию Николаевичу с трудом. Несколько раз он вынужден был и останавливаться, чтоб перевести дыхание и переменить руки, но все это, конечно, ничего не значило и нисколько не влияло на настроение Василия Николаевича. Он был уже весь во власти предстоящей работы, в сладостном порыве вдохновения, и все мелкие неудобства и преграды казались просто смешными. Не доходя двух-трех шагов до вершины, Василий Николаевич решил отдышаться в последний раз, чтоб после, уже на спуске и приближении к березе, больше не останавливаться и не терять времени. Яркое февральское солнце, вынырнув из-за бугорка, резко слепило Василию Николаевичу глаза, и он несколько мгновений стоял с покаянно опущенной головой, привыкая к снежно-искристому его сиянию. С самого раннего детства Василий Николаевич очень любил такие вот солнечные морозно-яркие дни, когда из тела и души безвозвратно уходят вялость и лень, а вместе с ними и скудные, ничтожные мысли. В такие дни тебя одолевает неутолимая жажда деятельности, движения; тело твое, как никогда крепкое и мужественное, требует настоящей мужской работы где-нибудь в поле, в лесу или в лугах, а мысли, под стать солнцу и морозу, ясные и чистые, постоянно влекут тебя к красоте и радости жизни, отвергая все суетное и мелочное. Надо только не побояться выйти из душной, пропыленной квартиры на свежий воздух и бодрящий мороз, где без движения и работы ты просто погибнешь.
Дыхание у Василия Николаевича выровнялось, окрепло, и он стремительно и напористо сделал два последних шага на вершину бугорка, в радостном предощущении того, как же легко ему будет спускаться вниз по твердому синеватому насту. И вдруг Василий Николаевич в испуге замер: сколько хватал глаз, перед ним простиралось широкое, занесенное снегом поле, с правой стороны окаймленное едва видимым темно-густым лесом, а с левой пустынно-голое до самого горизонта, – но березы на этом поле не было. Василий Николаевич вначале этому не поверил и стал лихорадочно оглядываться вокруг, сверяя запавшие ему в память приметы, пугаться еще больше и спрашивать у самого себя: может быть, он не туда заехал, перепутал дорогу и направление. Но минуту спустя, уже более спокойно осмотрев все окрест, он твердо укрепился в мысли, что ничего не перепутал, нигде в дороге не ошибся – это было именно то самое поле с призрачно видимым лесом по правую сторону, и вон там, на самой его середине, осенью стояла береза, которая столько раз грезилась Василию Николаевичу на заднем плане его седьмой картины. Кому она тут посреди поля могла помешать, кому могла понадобиться (на дрова ли, на корявые, сучковатые доски), Бог его знает, но вот же кому-то помешала и кому-то понадобилась. Разумнее всего Василию Николаевичу, наверное, надо было повернуть назад, чтоб попусту больше не расстраиваться, не распалять себя, но он все-таки начал спускаться вниз, к тому месту, где она когда-то росла и теперь от нее осталось одно лишь корневище. Василию Николаевичу захотелось посмотреть хотя бы на него, посчитать на свежем, не успевшем еще потемнеть срезе годовые кольца – и тем утешиться.
Но даже этого призрачного утешения ему не было суждено испытать. Вместо корневища и среза он увидел глубокую, занесенную снегом воронку, образованную немалым, должно быть, взрывом. Был ли он произведен по какой-либо хозяйственной нужде и потребности или по чьей-то прихоти, злому умыслу, а то и по глупому озорству, теперь уже значения не имело, – но от белоствольной, в самом расцвете и жизненной крепости березы не осталось и следа. Растерзанный ее ствол, наверное, увез на дрова какой-либо расторопный мужичок из местных шоферов или трактористов, а непригодные даже на растопку ветки занесло частью еще землей во время взрыва, а частью снегом, и Василий Николаевич вправе был теперь подумать, что она действительно всего лишь пригрезилась ему…
Утопая в снегу, Василий Николаевич стал безоглядно уходить назад к машине, но почему-то не по своим прежним следам, а окрест взгорка, по пустому равнинному полю, и вот тут его опять настиг злонамеренный, торжествующий хохоток незримого преследователя. Василий Николаевич с замершим сердцем, преодолев немалый свой страх и подозрения, наконец оглянулся и на склоне воронки в снежном мареве и синеве ясно и отчетливо увидел какую-то зыбкую, не совсем как бы даже и человеческую фигуру. Он поспешно отвернулся и хотел было побежать к спасительно виднеющейся на санной дороге машине, но, обутый в тяжелые негнущиеся валенки, оступился, упал и никак не мог подняться, путаясь в длиннополом тулупе и все глубже проваливаясь в снег. Одно было хорошо – что на земле и снегу, в острорежущем насте хохот преследователя казался Василию Николаевичу не таким злонамеренным и торжествующим, а вскоре и вовсе затих, хотя фигура все еще и продолжала маячить над оврагом, как будто ей было интересно узнать и увидеть, поднимется Василий Николаевич на ноги или не поднимется, так навсегда и оставшись лежать распластанным на краю поля…
Как поднялся со снега и как приехал в город, Василий Николаевич не помнил. Осознал он себя лишь через несколько дней крепко пьющим, и не у себя в квартире, не в мастерской, а дома у Даши. Он сидел за столом, уставленным всевозможными яствами, выпивками и закусками, в новомодном своем заграничном костюме, при бабочке и карманных золотых часах, как оказалось, подаренных ему Дашей. Квартира была богатой, причудливо (но безвкусно) обставленной, с какими-то атласно-бархатными шторами до самого пола, за которыми Василию Николаевичу постоянно чудились посторонние, не живущие в этой квартире люди. Он несколько раз говорил об этом Даше, просил ее выгнать из-за штор и из квартиры подозрительных, неизвестно как проникших сюда соглядатаев. В ответ Даша бесстыже садилась ему на колени, сладострастно обнимала, подносила бокал вина и, когда Василий Николаевич его выпивал, начинала полупьяно безудержно смеяться:
– Да нет там никого, художник!
Это ее ехидно-небрежительное «художник» обижало и оскорбляло Василия Николаевича. Он грубо отталкивал Дашу, сам шел к шторам проверить, есть ли там кто или нет, а потом вдруг мгновенно трезвел и начинал вспоминать, рассказал он или нет в пьяном бреду Даше о седьмой своей картине, о том, что писать такую картину русскому художнику грешно и святотатственно. И вот Бог его и наказывает за это и немощью, и пьянством, и пышнотелой нахально-вкрадчивой Дашей. Временами он был почти уверен, что рассказал, иначе с чего бы это Даше так ехидно похохатывать и посмеиваться над ним, прозывая за каждым словом «художником» и все подливая и подливая в бокал вина. Василий Николаевич смотрел на нее тяжелым, угрюмым взглядом, но от вина не отказывался, пил и хотел еще выпить, чтоб окончательно опьянеть и уснуть прямо за столом. Но Даша ему этого не позволяла, заботливо вела к белоснежной своей, немыслимых размеров кровати, терпеливо раздевала и укладывала под одеяло, несмотря на его грубое сопротивление и грубые слова.
Когда же Василий Николаевич просыпался и опять неведомо каким образом оказывался за столом в костюме, при бабочке и пошло-купеческих карманных часах, а Даша, услужливая и расторопно-веселая, обнаруживалась рядом с ним, он в мельчайших подробностях вспоминал все проведенные с ней дни и ночи и успокаивал себя – нет, не рассказал. Да и не мог рассказать, потому как никакого греха и святотатства за собой не чувствовал. Он художник и может писать любые картины, под любым названием и за любой гонорар – это никого не касается и не должно касаться, это его личное, неподсудное и неподвластное другим людям дело. А раз так, то и каяться ему незачем и не перед кем! Да и Даша после пьяного его покаяния вела бы себя совсем по-другому, не похохатывала бы, не посмеивалась бы над минутной, временной слабостью Василия Николаевича, а вполне трезво и расчетливо вызнала бы у него всю предельную сумму гонорара, хорошо опохмелила и сама отвезла бы в мастерскую к мольберту, кистям и краскам, почувствовав над ним роковую свою женскую силу и власть, которые при умелом владении ими могут обернуться немалыми посулами и наградами. Во всяком случае, намного большими, чем те, которые она зарабатывает в «Русской тройке» вакхическими своими танцами.
… Трезвые эти и все чаще повторяющиеся прозрения постепенно начали выводить Василия Николаевича из затяжного его, длившегося на этот раз почти полтора месяца затмения. И вот по весне, когда на деревьях не только набухли, но уже и распустились первые почки, он самым натуральным образом убежал от Даши.
Силы и здравый рассудок к нему быстро вернулись, Василий Николаевич окреп и душой и телом и теперь, изредка лишь вспоминая приключившееся с ним у Даши наваждение, снисходительно усмехался и задавался хотя и безответным, но тоже вполне смешным вопросом: «Надо же!»
К концу апреля, к Страстной, просветляющей сердце и душу неделе, Василий Николаевич почувствовал себя совсем хорошо, подготовил машину и поехал за город по весенним, обновленным дорогам. Никакого, заранее разработанного и заготовленного плана у него на этот раз не было, он просто решил выехать в поля и просторы лишь затем, чтоб подышать чистым апрельским воздухом, посмотреть, как возрождаются к новой жизни леса, луга и придорожные сады, и самому тоже возродиться, теперь, разумеется, окончательно и бесповоротно.
И, может быть, именно потому, что у него не было никаких заведомо намеченных планов и задумок, Василия Николаевича вдруг настигла удача.
Проезжая через одну из деревень (Василий Николаевич даже не запомнил ее название), он неожиданно увидел возле окраинного дома молодую, по-русски статную и по-русски неброско красивую женщину. На руках она держала годовалого светловолосого ребенка, который, засыпая, крепко обнимал ее за шею, и смотрела куда-то вдаль, на дорогу, уходящую в поля и незримо там теряющуюся за горизонтом. Казалось, она ожидала появления оттуда кого-то очень ей с сыном желанного, дорогого – любимого и любящего, – ждала и никак не могла дождаться. Солнце, поднявшееся высоко в зенит, почти отвесно освещало ее лицо, и Василий Николаевич вдруг не столько увидел, сколько ощутил на этом ее просветленном лице такое непостижимое предчувствие страданий, такое нечеловеческое терпение и такую надежду, что в изумлении вздрогнул и, стыдясь всех прежних своих торопливых восторгов, с печалью и резкой болью в груди подумал: да неужели у нас в России еще могут быть такие лица?! Он осторожно, боясь вспугнуть женщину, остановил машину у обочины (впрочем, она не обратила на нее никакого внимания, не выделила в потоке других машин) и лихорадочно, с непривычной дрожью в руках стал делать набросок, стал запоминать игру света и тени на лицах женщины и ребенка, зная, что их придется, в нарушение всех прежних своих привычек и обещаний, писать по памяти. Ведь не заставит же он эту женщину еще раз, ради только того, чтобы быть написанной на картине, выйти с ребенком на руках на дорогу, застыть в долгом и, наверное, уже почти непереносимом для нее ожидании и испытать те же чувства, которые она испытывает сейчас. Это было уже не искусство, это была такая первозданная и первородная жизнь, перед которой любая кисть, любое перо бессильны, а любой художник или сочинитель готов упасть в отчаяние от невозможности воплотить на холсте или выразить в словах хотя бы самую малую частичку открывшейся перед ним жизни.
Но Василий Николаевич не упал. Закончив набросок, он помчался сколько было силы в нем и в машине в город, почти не видя перед собой дороги и все время держа в памяти лицо женщины и ее так не по-детски утомленно засыпающего сына, который почему-то казался Василию Николаевичу глубоко обиженным жизнью, несчастным, скорее всего, сиротой.
Лихорадочно-возбужденное состояние Василия Николаевича в мастерской еще больше усилилось, вызвав такой прилив (почти приступ) вдохновения и такую страсть к работе, которой он не испытывал уже многие годы. В портрете, в фигуре женщины Василию Николаевичу все удалось с первого раза, свет и тень легли на холст точно так, как он увидел их там, в безымянной деревеньке, и как сумел довезти, сохранить в памяти. Он работал весь остаток дня и всю ночь при ярком свете юпитеров, и работал не столько карандашом и кистью, сколько душой и сердцем, воспаленной и все больше воспаляющейся мыслью.
Лишь в предрассветные часы он дал себе небольшую передышку, уснул на диване болезненным, чутким сном, намереваясь продолжить работу с первыми лучами солнца. Но когда оно взошло и залило мастерскую ярким, вызывающим глазную боль светом, Василий Николаевич долго не подходил к холсту, боялся, что все на нем неудачно, не так, как было задумано и увидено на деревенском раздорожье. Он несколько часов лежал на диване, притворяясь спящим, удерживая себя обманной мыслью, что при таком резком утреннем солнце смотреть холст нельзя – он будет слишком отсвечивать, и это свечение не позволит Василию Николаевичу беспристрастно оценить свою работу. Он ждал двенадцати часов. Вернее, двенадцати часов и двух минут. В мастерской Василия Николаевича была одна особенность. Солнце, ярко и резко заливавшее ее с утра, клонилось в сторону ровно в двенадцать часов и две минуты. И именно в эти минуты оно наиболее выгодно освещало мольберт и установленную на нем картину. Василий Николаевич хорошо это знал и если приглашал кого посмотреть на очередную свою работу, то непременно к двенадцати и двум минутам, чтоб посетитель и оценщик могли взглянуть на полотно в момент ухода солнца.
Сегодня таким оценщиком был сам Василий Николаевич. Он терпеливо дождался намеченного срока, когда солнце, прячась за домом, пригасило обжигающе-яркие свои лучи, и тут же стремительно поднялся, подошел к холсту, дрожащей рукой откинул прикрывающую его занавеску – и не смог сдержать ликования: все было так, как мыслилось и виделось, и даже лучше, – фигура женщины, преданно, но безнадежно ожидающей возвращения (или прихода) желанного, дорогого – любимого и любящего, – способного охранить и защитить ее человека, становилась теперь центральной фигурой и центральной мыслью всей картины.
Когда приступ восторга и ликования прошел, Василий Николаевич, ничего больше не поправляя в фигуре женщины (чувство меры и на этот раз не изменило ему), принялся писать березу, образ которой, оказывается, тоже хранил в памяти до мельчайших подробностей. Поначалу удача и тут ему сопутствовала: береза проступала на холсте по-саврасовски печальная и терпеливая, еще не предчувствующая своего последнего дня. Но потом вдруг все испортилось, перестало ладиться и получаться. Надо было, конечно, остановиться, передохнуть, и, возможно, даже не день, не два, а несколько недель, а то и месяцев. Душа Василия Николаевича переутомилась, перегорела во время работы над фигурой женщины и теперь требовала успокоения и долгого времени для накопления новых сил. Но Василий Николаевич никак не мог остановиться: во-первых, ему казалось, что если он сейчас остановится, то больше никогда такого вдохновения не обретет, не испытает, а значит, и не сумеет написать такую очень важную для него во всем замысле часть картины с прежней силой и страстью; во-вторых же, он совсем не ко времени вдруг вспомнил, что до отмеренного ему заказчиком первого контрольного срока осталось не так уж и много, всего два-три месяца, и надо поторапливаться, потому как не годится ему, столь уважаемому заказчиком и уважающему себя художнику, нарушать данное однажды слово.
И вот стечение этих двух обстоятельств, двух причин в конце концов и привели к тому, что все в работе Василия Николаевича разладилось, пошло на убыль. И мало того, что разладилось в работе, так еще и разладилось в душе: вдохновение час за часом стало покидать его, уходить, словно в песок, и к вечеру безвозвратно иссякло. В порыве гнева и отчаяния Василий Николаевич счистил мастихином подмалевок березы и даже занес было руку над фигурой женщины, оправдывая этот свой поступок тем, что раз не получается одно, то нечего хранить и самодовольно восхищаться другим. Но в это мгновение на антресолях, где у Василия Николаевича хранились старые эскизы и наброски, вдруг раздался так уже знакомый ему и так ненавистный хохоток. Что значил этот хохоток сейчас, в столь тяжелую для Василия Николаевича минуту, понять было никак невозможно: то ли преследователь потешался над его бессилием и творческой немощью, то ли упрямо подталкивал к безрассудному, губительному поступку – все-таки счистить с холста портрет женщины. В охватившем его исступлении Василий Николаевич готов был согласиться и с тем, и с другим (и наверное согласился бы), но, взглянув еще раз на портрет (в последний раз, как успел подумать Василий Николаевич), он вдруг встретился с женщиной взглядом – и отпрянул от картины: женщина смотрела на него истинно живыми, укоризненными глазами, и Василий Николаевич не смог вынести этой ее укоризны, бросил к подножью картины мастихин и убежал из мастерской, оставив решать судьбу холста тому, прячущемуся и хохочущему на антресолях.
… И опять Василий Николаевич очутился и обрел себя у Даши, в ее роскошной, аляповато обставленной квартире, в ее вкрадчиво-обманных объятиях. Все повторилось почти в точности, как и в прошлый раз: Даша ластилась к нему, похохатывая, обзывала «художником», щедро подносила вино и водку, а когда Василий Николаевич напивался и требовал выгнать из-за шторы скрывающегося там преследователя, вела к белоснежно расстеленной кровати и укладывала спать. Разница была лишь в том, что теперь водку, вино, дорогостоящие диковинные какие-то закуски и такие же дорогостоящие цветы, к которым Даша оказалась подозрительно неравнодушной, она покупала не за свой счет, а требовала оплачивать все расходы Василия Николаевича. Причем делала это удивительно искусно и великосветски тонко, постоянно внушая Василию Николаевичу мысль, что настоящий мужчина должен быть мужчиной во всем и не унижать женщину нищетой и бедностью. Василий Николаевич торжественно согласился с этой бесспорно правильной мыслью, взял Дашу под свое мужское покровительство и опеку и по-царски, по-королевски одарил ее всеми, какие только были у него с собой, деньгами и пообещал одарить еще, лишь бы она сейчас не оставляла его одного, потому что один он никак не справится с тем, кто прячется за шторой.
Сколько дней и ночей на этот раз он торжествовал, безрассудно отстранившись от мелочных своих забот живописца в доме у Даши, Василий Николаевич определить был не в силах. Ему хорошо было ничего не знать и не понимать, не видеть мольбертов и холстов, не ощущать запахов красок и лаков. А когда человеку хорошо, то зачем же он станет прерывать течение этого хорошего, счастливого времени.
И Василий Николаевич не прерывал. Вернее, почти не прерывал. Потому что однажды Даша велела ему привести себя в порядок, хорошо выбриться, погладить костюм и пойти в мастерскую.
– Зачем? – с удивлением посмотрел на нее Василий Николаевич.
– Тебя там ждут, – обвилась вокруг него Даша. – Сходи.
– Ну, если ты хочешь, – ответно поцеловал ее Василий Николаевич, – то схожу.
Пешком ему идти, конечно, не довелось, хотя Василий Николаевич и не против был прогуляться немного по городу. Даша подвезла его к мастерской на своей лаково сияющей иномарке, еще раз поцеловала и напутствовала:
– Будь умницей.