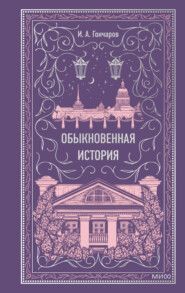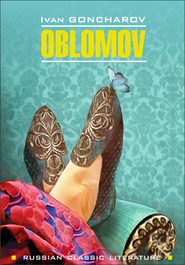По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Обрыв
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Чему смеешься?
– Что значит «серьезный»? – спросил он.
– Говорит умно, учит жить, не запоет: ти, ти, ти да та, та, та. Строгий: за дурное осудит! Вот что значит серьезный.
– Все эти «серьезные» люди – или ослы великие, или лицемеры! – заметил Райский. – «Учит жить»: а сам он умеет ли жить?
– Еще бы не умел! нажил богатство, вышел в люди…
– Иной думает у нас, что вышел в люди, а в самом-то деле он вышел в свиньи…
Марфенька засмеялась.
– Не люблю, не люблю, когда ты так дерзко говоришь! – гневно возразила бабушка. – Ты во что сам вышел, сударь: ни Богу свеча, ни черту кочерга! А Нил Андреич все-таки почтенный человек, что ни говори: узнает, что ты так небрежно имением распоряжаешься – осудит! И меня осудит, если я соглашусь взять: ты сирота…
– Вы мне когда-то говорили, что он племянницу обобрал, в казне воровал, – и он же осудит…
– Помолчи, помолчи об этом, – торопливо отозвалась бабушка, – помни правило: «Язык мой – враг мой, прежде ума моего родился!»
– Разве я маленький, что не вправе отдать кому хочу, еще и родственницам? Мне самому не надо, – продолжал он, – стало быть, отдать им – и разумно и справедливо.
– А если ты женишься?
– Я не женюсь.
– Почем знать? Какая-нибудь встреча… вон здесь есть богатая невеста… Я писала тебе…
– Мне не надо богатства!
– Не надо богатства: что городит! Жену ведь надо?
– И жену не надо.
– Как не надо? Как же ты проживешь? – спросила она недоверчиво.
Он засмеялся и ничего не сказал.
– Пора, Борис Павлович, – сказала она, – вон в виске седина показывается. Хочешь, посватаю? А какая красавица, как воспитана!
– Нет, бабушка, не хочу!
– Я не шучу, – заметила она, – у меня давно было в голове.
– И я не шучу, у меня никогда в голове не было.
– Ты хоть познакомься!
– И знакомиться не стану.
– Женитесь, братец, – вмешалась Марфенька, – я бы стала нянчить детей у вас… я так люблю играть с ними.
– А ты, Марфенька, думаешь выйти замуж?
Она покраснела.
– Скажи мне правду, на ухо, – говорил он.
– Да… иногда думаю.
– Когда же иногда?
– Когда детей вижу: я их больше всего люблю…
Райский засмеялся, взял ее за обе руки и прямо смотрел ей в глаза. Она покраснела, ворочалась то в одну, то в другую сторону, стараясь не смотреть на него.
– Ты послушай только: она тебе наговорит! – приговаривала бабушка, вслушавшись и убирая счеты. – Точно дитя: что на уме, то и на языке!
– Я очень люблю детей, – оправдывалась она, смущенная, – мне завидно глядеть на Надежду Никитишну: у ней семь человек… Куда ни обернись, везде дети. Как это весело! Мне бы хотелось побольше маленьких братьев и сестер или хоть чужих деточек. Я бы и птиц бросила, и цветы, музыку, все бы за ними ходила. Один шалит, его в угол надо поставить, тот просит кашки, этот кричит, третий дерется; тому оспочку надо привить, тому ушки пронимать, а этого надо учить ходить… Что может быть веселее! Дети – такие милые, грациозные от природы, смешные, добрые, хорошенькие!
– Есть и безобразные, – сказал Райский, – разве ты и их любила бы!..
– Есть больные, – строго заметила Марфенька, – а безобразных нет! Ребенок не может быть безобразен. Он еще не испорчен ничем.
Все это говорила она с жаром, почти страстно, так что ее грациозная грудь волновалась под кисеей, как будто просилась на простор.
– Какой идеал жены и матери! Милая Марфенька – сестра! Как счастлив будет муж твой!
Она стыдливо села в угол.
– Она все с детьми: когда они тут, ее не отгонишь, – заметила бабушка, – поднимут шум, гам, хоть вон беги!
– А есть у тебя кто-нибудь на примете, – продолжал Райский, – жених какой-нибудь!..
– Что это ты, мой батюшка, опомнись? Как она без бабушкина спроса будет о замужестве мечтать?
– Как, и мечтать не может без спроса?
– Конечно, не может.
– Ведь это ее дело.
– Нет, не ее, а пока бабушкино, – заметила Татьяна Марковна. – Пока я жива, она из повиновения не выйдет.
– Зачем это вам, бабушка?
– Что зачем?
– Такое повиновение: чтоб Марфенька даже полюбить без вашего позволения не смела?