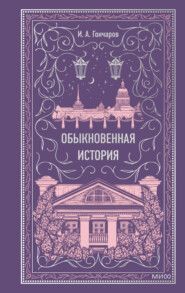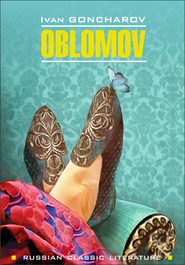По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фрегат «Паллада»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Через час я, сквозь пол своей комнаты, слышал, как Фаддеев на дворе рассказывал анекдот о купанье двум своим товарищам. Я сказал Демьену, и он засмеялся. «Испортились желобы у обеих ванн; надо поправить», — сказал он вскользь. «А давно испортились?» — спросил я. «Нет, нынешней зимой…» Опять мне пришло в голову, как в «Welch’s hotel», в Капштате, по поводу разбитого стекла, что на нас сваливают вот этакие неисправности и говорят, что беспечность в характере русского человека: полноте, она в характере — просто человека.
Наконец мы собрались пораньше утром, то есть часу в девятом, отдать визит молодым людям, Абелло и Кармена. Под этой учтивостью крылся умысел осмотреть королевскую сигарную фабрику и купить сигар. Кучер привез нас в испанский город, на квартиру отца Абелло, редактора здешней газеты. Мы вошли под ворота, на крытый двор, и очутились в редакции. В углу под навесом, у самых ворот, сидели двое или трое молодых людей, должно быть сотрудники, один за особым пюпитром, по-видимому главный, и писали. Тут же неподалеку тагалы складывали листы только что отпечатанной газеты. Старший сотрудник говорил по-французски. Мы спросили Абелло и Кармена: он сказал, что они уже должны быть на службе, в администрации сборов, и послал за ними тагала, а нас попросил войти вверх, в комнаты, и подождать минуту.
Мы вошли по деревянной, чистой, лощеной лестнице темного дерева прямо в бесконечную галерею-залу, убранную очень хорошо, с прекрасными драпри, затейливою новейшею мебелью. Везде уголки с диванами, пате, столики, уставленные безделками, как у редактора хорошего журнала. Тагалка встала из-за работы и пошла сказать о нас господам. Через минуту появилась высокая, полная старушка с седой головой, без чепца, с бледным лицом, черными, кротко мерцавшими глазами, с ласковой улыбкой, вся в белом: совершенно старинный портрет, бежавший со стены картинной галереи: это редакторша. Мы раскланялись и заговорили, она по-испански, мы сначала по-французски, потом по-английски, но это ровно ни к чему нас не повело или, пожалуй, повело к креслу только, которое указала старуха, прося сесть. Мы повторили опыт объясниться, но также безуспешно. Старушка наконец ушла, сказав нам что-то, вероятно прося подождать. Мы подождали минут пять, употребив это время на рассматривание залы. Между прочим, мы видели и тут в полу такие же щели, как и в фонде; потолок тоже весь собран из небольших дощечек, выбеленных мелом. Видно, землетрясения не шутят здесь и всех держат в постоянном страхе. Но эти наблюдения наскучили нам, и мы решились уйти.
На цыпочках благополучно выбрались мы из залы, сошли с лестницы и в дверях наткнулись на Абелло и Кармена. Они воротили нас, усадили, подали сигар, предлагая позавтракать, освежиться, и потом показали вчерашнюю газету, в которой был сделан приятный отзыв о нашем фрегате, о приеме, сделанном там испанцам, и проч. Мы напомнили им обещание показать нам фабрику и помочь купить сигар. Абелло пошел к своему отцу и, воротясь, велел закладывать карету. Он почти насильно усадил нас туда, вместе с собой и Кармена, а нашему кучеру велел ехать за нами.
Фабрика — огромное квадратное здание в предместии Бинондо в два этажа, с несколькими флигелями, пристройками, со многими воротами и дверями, с большим двором внутри. У главных ворот Абелло поговорил с караульными, и те нас — не пустили. Тут подъехал таможенный офицер верхом; Абелло обратился к нему — и тот не пустил. «Этого можно бы добиться и без протекции», — заметил я барону. Все говорили, что надо иметь билет от фабричной дирекции. Мы отправились туда, к счастью недалеко, и, после хождения по разным комнатам и отделениям, наконец получили записку и отправились. Тут еще караульные стали передавать ее из рук в руки, оглядывать со всех сторон, понесли вверх, и минут через пять какой-то старый тагал принес назад, а мы пока жарились на солнце. Впрочем, это последнее обстоятельство относилось более к кучеру и лошадям, потому что сами мы сидели в карете. Тагал пригласил нас идти; с нами пошел еще один из караульных.
По мере того как мы шли через ворота, двором и по лестнице, из дома все сильнее и чаще раздавался стук как будто множества молотков. Мы прошли несколько сеней, заваленных кипами табаку, пустыми ящиками, обрезками табачных листьев и т. п. Потом поднялись вверх и вошли в длинную залу с таким же жиденьким потолком, как везде, поддерживаемым рядом деревянных столбов.
В зале, на полу, перед низенькими, длинными, деревянными скамьями, сидело рядами до шести— или семисот женщин, тагалок, от пятнадцатилетнего возраста до зрелых лет: у каждой было по круглому, гладкому камню в руках, а рядом, на полу, лежало по куче листового табаку. Эти дамы выбирали из кучи по листу, раскладывали его перед собой на скамье и колотили каменьями так неистово, что нельзя было не только слышать друг друга, даже мигнуть. Сколько голов повернулось к нам, сколько черных лукавых глаз обратилось на нас! Все молчали, никто ни слова, но глазами действовали сильно, а руками еще сильнее. Вероятно, они заметили, по нашим гримасам, что непривычным ушам неловко от этого стука, и приударили что было сил; большая часть едва удерживала смех, видя, что вместе с усиленным стуком усилились и страдальческие гримасы на наших лицах. Это для них было неожиданным развлечением, кокетством в своем роде.
Молодые мои спутники не очень, однако ж, смущались шумом; они останавливались перед некоторыми работницами и ухитрялись как-то не только говорить между собою, но и слышать друг друга. Я хотел было что-то спросить у Кармена, но не слыхал и сам, что сказал. К этому еще вдобавок в зале разливался запах какого-то масла, конечно табачного, довольно неприятный.
Но вот уж мы выходим из залы. «Сейчас это кончится», — утешал я себя: мы в самом деле вышли, но опять в другую, точно такую же залу, за ней, в дальней перспективе, видна была еще зала; с каждым нашим шагом вперед открывались еще и еще. «Да сколько же тут женщин?» — спросил я, остановившись в маленьком пустом промежутке между двух зал. «От восьми до девяти тысяч», — сказал Абелло. «Что вы!» — «Да. Нынешний губернатор хочет увеличить и улучшить фабрику: очень выгодно». — «Восемь-девять тысяч!» — повторил я в изумлении, глядя на эти большею частью недурные головки и коричневые лица, сидевшие плотными рядами, как на смотру.
Во всех залах повторялся тот же маневр при нашем появлении: то есть со стороны индианок — сначала взгляды любопытства, потом усиленный стук и подавляемые улыбки, с нашей — рассеянные взгляды, страдальческие гримасы и нетерпение выйти. Впрочем, на фабрике соблюдается строгое приличие. Индианки не смеются, не разговаривают: им предоставлено только право стучать. Говорят, они тут очень скромно ведут себя: для этого приняты все меры. Кроме двух-трех старых тагалов да двух-трех чиновников-надзирателей, тут нет ни одного мужчины.
В других комнатах одни старухи скатывали сигары, другие обрезывали их, третьи взвешивали, считали и т. д. Мы не ходили по всем отделениям: довольно и этого образчика.
В последней комнате, перед выходом, за бюро сидел альфорадор, заведывающий одним из отделений. Он говорил по-английски и прежде всего, узнав, что мы русские, сказал, что есть много заказов из Петербурга, потом объяснил, что он, несколько месяцев назад, выписан из Гаваны, чтоб ввести гаванский способ свертывать сигары вместо манильского, который оказывается по многим причинам неудобен. Он сказал, что табак манильский отнюдь не хуже гаванского и что здесь только недостает многих приемов приготовления и, между прочим, свертка нехороша. Он много важности придавал свертке, говорил даже, что она изменяет до некоторой степени вкус самого табаку. «Вот две сигары одного табаку и разных сверток, попробуйте, — сказал он, сунув нам в руки по два полена из табаку, — это лучшие сорты, одна свернута по-гавански, круче и косее, другая по-здешнему, прямо. Одна сделана сегодня, другая вчера», — заключил он, как будто для большей похвалы сигарам.
Я вертел в руках обе сигары с крайнею недоверчивостью: «Сделаны вчера, сегодня, — говорил я, — нашел чем угостить!» — и готов был бросить за окно, но из учтивости спрятал в карман, с намерением бросить, лишь только сяду в карету. «Нет, нет, покурите», — настаивал альфорадор. Нечего делать, я закурил — и вдруг заструился легкий благовонный дым. Сигара, к удивлению моему, закурилась легко, табак был прекрасный, хотя пепел и не совсем бел. «Да это прекрасная сигара! — сказал я, — нельзя ли купить таких?» — «Нет, это гаванской свертки: готовых нет, недели через две можно, — прибавил он тише, оборачиваясь спиной к нескольким старухам, которые в этой же комнате, на полу, свертывали сигары, — я могу вам приготовить несколько тысяч…» — «Мы едва ли столько времени останемся здесь. Отчего ж их в магазине нет?» — сказал я. «Здешние женщины привыкли к своей свертке и оттого по гаванскому способу работают медленно. Вот теперь покурите другую сигару, здешней свертки». Я закурил, и та хороша, хотя в самом деле не так, как первая: или это так показалось, потому что альфорадор подсказал. «Ну нельзя ли хоть таких?» — спросил я. «Таких и гораздо меньше, второго сорта, вы найдете в магазине». — «А обрезанных с обеих сторон сигар можно найти там?» — «Чирут? Plenty, o, plenty (много)! — отвечал он, — то третий и четвертый сорт, обыкновенные, которые все курят, начиная от Индии до Америки, по всему Индийскому и Восточному океанам».
В самом деле, мы в Сингапуре, в Китае других сигар, кроме чирут, не видали. Альфорадор обещал постараться приготовить сигары ранее двух недель и дал нам записку для предъявления при входе, когда захотим его видеть. Мы ушли, поблагодарив его, потом г-д Абелло и Кармена, и поехали домой, очень довольные осмотром фабрики, любезными испанцами, но без сигар.
Дома мы узнали, что генерал-губернатор приглашает нас к обеду. Парадное платье мое было на фрегате, и я не поехал. Я сначала пожалел, что не попал на обед в испанском вкусе, но мне сказали, что обед был длинен, дурен, скучен, что испанского на этом обеде только и было, что сам губернатор да херес. Губернатора я видел на прогулке, с жокеями, в коляске, со взводом улан; херес пивал, и потому я перестал жалеть.
Вечером я предложил в своей коляске место французу, живущему в отели, и мы отправились далеко в поле, через С.-Мигель, оттуда заехали на Эскольту, в наше вечернее собрание, а потом к губернаторскому дому на музыку. На площади, кругом сквера, стояли экипажи. В них сидели гуляющие. Здесь большею частью гуляют сидя. Я не последовал этому примеру, вышел из коляски и пошел бродить по площади.
Какой вечер! что за вид! Церковь и ратуша облиты были лунным светом, а дворец прятался в тени; бронзовая статуя стояла, как привидение, в блеске лунных лучей. Как кроток и мягок этот свет, какая нега в теплом воздухе — и вдобавок ко всему — прекрасная музыка. Здесь восемь полковых оркестров и, кроме того, множество частных — до трехсот, сказал кто-то: пошутил, верно. А кто знает, может быть, и правда. Говорят, здесь только и делают, что танцуют, и нам бы предстояло множество вечеров и собраний, если б мы пришли не постом. Танцуют, здесь! Вот, говорят, с инквизицией уничтожились все пытки в Испании! Нет, не все! Даже музыкой заниматься — и то жарко, а они танцуют!
Музыканты все тагалы: они очень способны к искусствам вообще. У них отличный слух: в полках их учат будто бы без нот. Не знаю, сколько правды во всем этом, но знаю только, что игра их сделала бы честь любому оркестру где бы то ни было — чистотой, отчетливостью и выразительностью.
Оркестры, один за другим, становились у дворца, играли две-три пьесы и потом шли в казармы.
Играли много, между прочим из Верди, которого здесь предпочитают всем, я не успел разобрать почему: за его оригинальность, смелость или только потому, что он новее всех.
Последний оркестр, оглашая звуками торжественного марша узкие, прятавшиеся в тени улицы, шел домой. Экипажи зашевелились и помчались по разным направлениям. Мы с французом выехали из крепости опять на взморье, промчались по опустевшему кальсадо и вернулись в город. Он просил у одного дома выпустить его: «J’ai une petite visite а faire» — пропел он своим фальцетто и скрылся в дверь. В это же время вверху, у окна, мелькнул очерк женской головы и захлопнулось жалюзи… Я никого не застал в отели: одни уехали на рейд, другие на вечер, на который Кармена нас звал с утра, третьи залегли спать. Я сел за письма.
Наконец мы собрались к миссионерам и поехали в дом португальского епископа. Там, у молодого миссионера, застали и монсиньора Динакура, епископа в китайском платье, и еще монаха с знакомым мне лицом. «Настоятель августинского монастыря, — по-французски не говорит, но все разумеет», — так рекомендовал нам его епископ. Я вспомнил, что это тот самый монах, которого я видел в коляске на прогулке за городом.
Нам подали сигар, и епископ, приветливо и весело, как настоящий француз, начал, после двух-трех вопросов, которые сделал нам о нашем путешествии, рассказывать о себе. Он сказал, что живет двадцать лет в Китае, заведывает христианскою паствою в провинции Джедзиан, в которой считается до пятнадцати миллионов жителей. Он говорит, что цифра триста миллионов, которою определяют народонаселение Китая, не преувеличена: в его провинции есть несколько городов, где считают от двух до трех миллионов жителей, и, между прочим, знаменитый город Сучеу. «А сколько христиан?» — спросил я. «До пятисот тысяч во всем Китае». — «Мало», — сказал я. «Да, немного; но теперь обращение пошло скорее, — отвечал епископ, — особенно в среднем и низшем классах. Главное препятствие встречается в буддийских бонзах и в ученых. На них ничто не действует: одни — слепые фанатики, другие — педанты, схоластики: они в мертвой букве видят ученость и свет. Вся трудность состоит в том, чтоб уверить их, что мы пришли и живем тут для их пользы, а не для выгод. Они представить себе этого не могут и не верят». — «Вот христианским миссионерам, может быть, скоро предстоят новые подвиги, — сказал я, — возобновить подавленное христианство в Японии, которая не сегодня, так завтра непременно откроется для европейцев…» — «А coups des canons, monsieur, а coups des canons!»[30 - «Только с помощью пушек, сударь, только с помощью пушек» — фр.] — прибавил епископ.
В это время прервали нас два монаха, иезуиты кажется. Они вошли, преклонили пред епископом колена, приняли благословение и сели. Епископ пригласил нас к себе на квартиру, в монастырь св. Августина. Монастырь занимает большой угол в испанском городе и одной стороной обращен к морю. Это настоящее аббатство, обширное, с галереями, бесконечными коридорами, кельями, в котором можно потеряться. Мы отдохнули в квартире епископа, а настоятель ушел на короткую молитву в церковь, по звону колокола. Нам предложили было завтрак, но мы отказались.
Вскоре настоятель воротился и принес только что присланное к нему официальное объявление от губернатора, что испанская королева разрешилась от бремени дочерью.
Он скрылся опять, а мы пошли по сводам и галереям монастыря. В галереях везде плохая живопись на стенах: изображения святых и портреты испанских епископов, живших и умерших в Маниле. В церковных преддвериях видны большие картины какой-то старой живописи. «Откуда эта живопись здесь?» — спросил я, показывая на картину, изображающую обращение Св. Павла. Ни епископ, ни наш приятель, молодой миссионер, не знали: они были только гости здесь.
По узенькой, извилистой лестнице вошли мы прямо на хоры главной церкви и были поражены тонкостью и изяществом деревянной резьбы, которая покрывала все стены на хорах, кафедру, орган — все. Дерево темное, с нежными оттенками. «Кто это работал? — спросил я с изумлением, — ужели из Европы привезли? в Европе это буазери стоило бы неимоверных цен». — «Все индийцы, тагалы, — сказали они. — Вон смотрите: они работают и теперь. Церковь пострадала от землетрясения в прошедшем году, и ее теперь поправляют, и живопись здесь — все тагалов же». Я бросил беглый взгляд на образа — нет, живопись еще в младенческом состоянии у тагалов. В музыке, лепных и резных работах они далеко впереди. Что касается до картин, то они мало чем лучше тех, что у нас иногда продают на тротуаре, на улицах. «Но ведь это в Маниле, — сказал молодой миссионер, прочитавший, должно быть, у меня на лице впечатление от этих картин, — между дикими индийцами, которые триста лет назад были почти звери…» — «Да; но триста лет назад! — сказал я. — И этот храм — ровесник стенам города: можно бы, кажется, украсить его живописью соотечественникам Мурильо».
Мы пошли вниз. Епископ показывал местами трещины по стенам, местами обвалившуюся штукатурку, раздвинувшиеся столбы — все следы землетрясения. «Да разве часто бывают они?» — спросил я. «Каждый год что-нибудь да бывает, хоть немного, слегка, — сказал он. — Вот иезуитская церковь лежит теперь вся в развалинах». Войдя в большую церковь, епископ, а за ним и молодой миссионер преклонили колена, сложили на груди руки, поникли головами и на минуту задумались. Потом встали и начали опять живо разговаривать. Это была лучшая церковь в Маниле, по их словам. Она в самом деле хороша: прекрасные размеры главного и побочного приделов кажут ее больше, нежели она есть. Она очень хорошо освещена сверху: свет от алтаря разливается ровно до самых дальних углов. Если б не тагальская живопись, то можно было бы увлечься этими стройными, высокими арками, легким куполом. Но живопись мешает, колет глаза; так и преследуют вас эти яркие, то красные, то синие, пятна; скульптура еще больше. Является какое-то артистически болезненное раздражение нерв, нужды нет, что вам говорят, чье это произведение. Никакой терпимости, никакого снисхождения нет в человеке, когда оскорблено его эстетическое чувство. Вдобавок к этому, еще все стены и столбы арок были заставлены тяжелыми и мрачными иконостасами с позолотой, тогда как стиль требует белых, чистых пространств с редким и строго обдуманным размещением картин высокого достоинства. Бывают примеры, что архитектура здания подавляет или поглощает живопись; а здесь наоборот. Я старался не смотреть на живопись и не спускал глаз с буазери.
Потом нас повели в ризницу. Пред ней, в комнате, стояли лавки, пюпитры — это что-то вроде класса для тагалов. Несколько их сидело тут с флейтами и кларнетами. Они бросились к руке епископа, как все тагалы, которые встречались нам на дворе, на дороге к монастырю. Некоторые становились на колени. Епископ велел музыкантам сыграть что-нибудь. Они заиграли что-то вроде марша, но не совсем стройно, не совсем чисто, особенно после того, что мы слышали у дворца. «Видно, этих учат по нотам: не они ли расписывали церковь?» — подумал я. Мы с бароном дали артистам денег и ушли, сначала в ризницу, всю заставленную шкапами с церковною утварью, — везде золото, куда ни поглядишь; потом пошли опять в коридоры, по кельям. Везде до нас долетали звуки флейт и кларнетов: артисты, от избытка благодарности, не могли перестать сами собою, как испорченная шарманка.
Мы проходили мимо дверей, с надписями: «Эконом», «Ризничий» — и остановились у эконома. «C’est un bon enfant, — сказал епископ, — entrons chez lui pour nous reposer un moment». — «Il a une excellente biere, monseigneur»[31 - «Он славный малый… зайдем к нему немного отдохнуть». — «У него отличное пиво, монсеньор» — фр.], — прибавил молодой миссионер нежным голосом.
Они постучались, и нам отпер дверь пожилой монах, весь в белом, волоса с проседью, все лицо в изломанных чертах, но не без доброты. Келья была темна, завалена всякой всячиной, узлами, ящиками; везде пыль; мебель разнохарактерная; в углу, из-за пестрого занавеса, выглядывала постель. На большом круглом столе лежали счеты, реестры, за которыми мы и застали эконома. Он через епископа спросил нас кое-что о путешествии, надолго ли приехали, а потом не хотим ли мы чего-нибудь. «Пива», — сказали оба француза. Монах засуетился и велел тагалу вскрыть бывшие тут же где-то в углу два ящика и подать несколько бутылок английского элю и портера. Но прежде всего подал огромный поднос с сигарами. Каких тут не было! всяких размеров и сортов, и гаванской, и манильской свертки… Вот где водятся хорошие-то сигары в Маниле!
Мы сидели с полчаса; говорил все епископ. Он рассказывал о Чусанском архипелаге и называл его перлом Китая. «Климат, почва, как в раю, — выразился он. — Я жил там восемь лет, — продолжал он, — там есть колония ирландских католиков: они имеют значительное влияние на китайцев, ввели много европейских обычаев и живут прекрасно. Чусанские китайцы снабжают почти все берега Китая рыбою, за которою выезжают на нескольких тысячах лодок далеко в море». При этой цифре меня взяло сомнение; я хотел выразить его барону Крюднеру и вдруг выразил, в рассеянности, по-французски. Эта рассеянность произошла оттого, что епископ, не знаю почему, ни с того ни с сего принялся рассказывать о Чусане по-английски. «Да, несколько тысяч», — подтвердил настойчиво епископ по-французски.
От эконома повели нас на самый верх, в рекреационную залу. «Я вам покажу прекрасный вид», — сказал епископ. Мы зашли к монаху, у которого хранился ключ от залы, — это самый полный и красивый монах, какого я только видел где-нибудь, с постоянной улыбкой, с румянцем. Я увидел у него на стене прекрасную небольшую картину «Снятие со креста» и «Божию Матерь». Я отдохнул на этой живописи от всех виденных картин. Напрасно я старался прочесть имя живописца: едва видно было несколько белых точек на темном фоне. «Откуда эта картина?» — «Из Италии, из монастыря». Вот все, что я узнал о ней.
Опять по извилистой лестнице поднялись мы и в рекреационную залу. Это была длинная крытая галерея с окошками на три стороны. Пол простой, деревянный; половицы так и ходили под ногами. Все в запустении. Видно, что никто не бывает здесь. Ни на одно кресло сесть нельзя: пыль лежала густыми слоями. Можно подумать, что августинцы совсем не любят отдыхать, а проводят все время в трудах и богомыслии. Посредине стоял бильярд, для моциона; у окон, на треножнике, поставлена большая зрительная труба. Вид из окошек в самом деле прекрасный: с одной стороны весь залив перед глазами, с другой — испанский город, с третьей — леса и деревни. И они не сидят здесь день и ночь, не наслаждаются ничем этим! Мы едва оторвались от окошек. Епископ по очереди сыграл с нами обоими на бильярде и оказался не слабым игроком.
Обратясь спиной к дверям, я вдруг услышал шелест женского платья, мягкую походку — живо оборачиваюсь — белые кисейные блузы… Толпа августинцев, человек двенадцать, все молодые, с сигарами. Одни, немного заспанные, с горячими щеками, другие, с живым взглядом, с любопытством смотрели на нас, пришельцев издалека, и были очень внимательны. К сожалению, никто из них не знал никакого другого языка, кроме испанского. «Мы виноваты, что не можем говорить с вами, — сказали они чрез молодого француза. — Русские говорят по-французски, по-английски и по-немецки; нам следовало бы знать один из этих языков». — «Мы говорили бы и по-испански, если б Испания была поближе к нам», — отвечал я.
Вдруг послышались пушечные выстрелы. Это суда на рейде салютуют в честь новорожденной принцессы. Мы поблагодарили епископа и простились с ним. Он проводил нас на крыльцо и сказал, что непременно побывает на рейде. «Не хотите ли к испанскому епископу?» — спросил миссионер; но был уже час утра, и мы отложили до другого дня.
«Что они здесь делают, эти французы? — думал я, идучи в отель, — епископ говорит, что приехал лечиться от приливов крови в голове: в Нинпо, говорит, жарко; как будто в Маниле холоднее! А молодой все ездит по окрестным пуэбло по каким-то делам…»
Мы рано поднялись на другой день, в воскресенье, чтоб побывать в церквах. Заехали в три церкви, между прочим в манильский собор, старое здание, постройки XVI столетия. Он только величиной отличается от других приходских церквей. Украшения в нем так же безвкусны, живопись так же дурна, как и в церкви предместья и в монастырях. Орган плох, а в других церквах он заменяется виолончелью и флейтой.
Одна церковь, впрочем, лучше других, побогаче, чище, светлее. В ней мало живописи и тусклой позолоты; она не обременена украшениями; и прихожане в ней получше, чище одеты и приличнее на вид, нежели в других местах.
Испанцев в церквах совсем нет; испанок немного больше. Все метисы, тагалы да заезжие европейцы разных наций. Мы везде застали проповедь. Проповедники говорили с жаром, но этот жар мне показался поддельным; манеры и интонация голоса у всех заученные.
После обедни мы отправились в цирк смотреть петуший бой. Нам взялся показать его француз Рl., живший в трактире, очень любезный и обязательный человек. Мы заехали за ним в отель. Цирков много. Мы отправились сначала в предместье Бинондо, но там не было никого, не знаю почему; мы — в другой, в предместье Тондо. С полчаса колесили мы по городу и наконец приехали в предместье. Оно все застроено избушками на курьих ножках и заселено тагалами.
Француз дорогой подтвердил нам, что тагалы самый счастливый народ в свете. «Они ни в чем не нуждаются, — сказал он, — работают мало, и если выработают какой-нибудь реал в сутки, то есть восьмую часть талера (около 14 коп. сер.), то им с лишком довольно на целый день. Индиец купит себе рису; банан у него есть, сладкий картофель или таро тоже — и обед готов. Еще останется ему на что купить кокосовой водки. Испанцы обходятся с ними хорошо, кротко, и тагалы благословляют свою участь. Конечно, они могли бы быть еще деятельнее, следовательно, жить в большем довольстве, не витать в этих хижинах, как птицы; но для этого надобно, чтоб и повелители их, то есть испанцы, были подеятельнее; а они стоят друг друга: tel maitre, tel valet[32 - каков хозяин, таков и слуга — фр.]».
То же подтвердил накануне и епископ. «Ах, если бы Филиппинские острова были в других руках! — сказал он, — какие сокровища можно было бы извлекать из них! Mais les espagnols sont indolents, paresseux, trиs paresseux![33 - Но испанцы бездельники, лентяи, ужасные лентяи! — фр.]» — прибавил он со вздохом.
От нового губернатора, маркиза Новичелиса, ждут много доброго. Он затевает разные реформы; ему дано больше прав и власти, нежели его предшественникам: он нечто вроде вице-короля. Повод к увеличению его власти подали некоторые опасения насчет духовенства, влияние которого стало слишком ощутительно в этой колонии. Слухи об этом дошли до метрополии; притом индийцы на прочих островах стали пошаливать. Незадолго перед нашим прибытием они, на острове Минданао, умертвили человек двадцать солдат. Потребовались строгие меры, и то судно, которое мы встретили в Анжере, везло новые войска. На том же судне был и Кармена, с которым мы увиделись как с старым знакомым. В губернаторе находят пока один недостаток: он слишком исполнен своего достоинства, гордится древностью рода и тем, что жена его — первая штатс-дама при королеве, от этого он важничает, как петух…
Но вот и цирк, вот и петухи. Цирк — это исполинская бамбуковая клетка, в какую сажают попугаев, вся сквозная: снаружи издалека можно видеть, что в ней делается. В ней три яруса галерей для зрителей, а посредине круглая арена для бойцов. Крыша коническая, сплетена тоже из бамбуковых жердей и потому сквозная, но в ней, сверх того, есть несколько люков для воздуха. Мы с трудом пробрались сквозь густую толпу народа ко входу, заплатили по реалу и вошли в клетку. Зрителей было человек до пятисот в самой клетке да человек тысяча около. Последние не зрители, а участники. У всякого под мышкой был петух. Публика вся состояла из тагалов, китайцев и метисов. Мы пробрались в верхнюю галерею и с трудом отыскали три свободные места. Женщинам нельзя сидеть в этих сквозных галереях, особенно в верхних этажах: поэтому в цирке были только мужчины да петухи — ни женщин, ни кур ни одной. Но зато какое множество петухов! какое свирепое, непрерывное пение раздавалось в клетке и около нее!
На арене ничего еще не было. Там ходил какой-то распорядитель из тагалов, в розовой кисейной рубашке, и собирал деньги на ставку и за пари. Я удивился, с какой небрежностью индийцы бросали пригоршни долларов, между которыми были и золотые дублоны. Распорядитель раскладывал деньги по кучкам на полу, на песке арены. На ней, в одном углу, на корточках сидели тагалы с петухами, которым предстояло драться.
Вот явились двое тагалов и стали стравливать петухов, сталкивая их между собою, чтоб показать публике степень силы и воинственного духа бойцов. Петухи немного было надулись, но потом равнодушно отвернулись друг от друга. Их унесли, и арена опустела. «Что это значит?» — спросил я француза. «Петухи не внушают публике доверия, и оттого никто не держит за них пари».
Из угла отделились двое других состязателей и стали также стравливать бойцов, держа их за хвост, чтоб они не подрались преждевременно. Петухи надулись, гребни у них побагровели, они только что бросились один на другого, как хозяева растащили их за хвосты. Петухи были надежны; между зрителями обнаружилось сильное волнение. Толпа заколебалась; поднялся говор, как внезапный шум волн, и шел crescendo. Все протягивали друг к другу руки с долларами, перекликались, переговаривались, предлагали пари, кто за желтого, кто за белого петуха. И к нам протянулось несколько рук; нас трогали со всех сторон за плечи, за спину, предлагая пари.
Между тем хозяева петухов сняли с стальной шпоры, прикрепленной к одной ноге бойца, кожаные ножны. Распорядитель подал знак — все умолкло. Петухов бросили друг на друга. Один из них воспользовался первой минутой свободы, хлопнул раза три крыльями и пропел, как будто хотел душу отвести; другие, менее терпеливые, поют, сидя у хозяев под мышками. Пропев, он обратился было к своим мирным занятиям, начал искать около себя на полу, чего бы поклевать, и поскреб раза два землю ногой. Но хозяин схватил его, погладил, дернул за подбородок и бросил на другого, который рвался из рук хозяина. Тогда у обоих бойцов образовались из перьев около шеи манжеты, оба нагнули головы и стали метить друг в друга. Долго щетинились они, наконец оба вспрыгнули вдруг, и один перескочил через другого, и тотчас же опять построились в боевую позицию, и опять нагнулись. Потом раза три сильно сшиблись; полетело несколько перьев по сторонам. Опять один перескочил через другого, царапнул того шпорой, другой тоже перескочил и царапнул противника так, что он упал на бок, но в ту же минуту встал и с новой яростью бросился на врага. Тут уж ничего больше разобрать было нельзя: рыцари дрались в общей свалке, сшибались, часто и сильно впивались друг другу в гребень, то один повалит другого, то другой первого.
«Это все и у нас увидишь каждый день в любой деревне, — сказал я барону, — только у нас, при таком побоище, обыкновенно баба побежит с кочергой или кучер с кнутом разнимать драку, или мальчишка бросит камешком». Вскоре белый петух упал на одно крыло, вскочил, побежал, хромая, упал опять и наконец пополз по арене. Крыло волочилось по земле, оставляя дорожку крови.