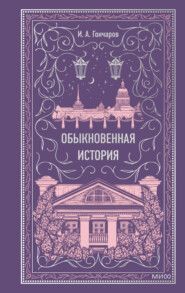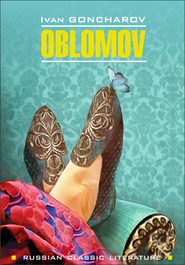По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фрегат «Паллада»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Однако я устал идти пешком и уже не насильно лег в паланкин, но вдруг вскочил опять: подо мной что-то было: я лег на связку с бананами и раздавил их. Я хотел выбросить их, но проводники взяли, разделили поровну и съели.
Мы продолжали подниматься по узкой дороге между сплошными заборами по обеим сторонам. Кое-где между зелени выглядывали цветы, но мало. А зима, говорит консул. Хороша зима: олеандр в цвету!
Вдруг в одном месте мы вышли на открытую со всех сторон площадку.
Португальцы поставили носилки на траву. «Bella vischta, signor!» — сказали они. В самом деле, прекрасный вид! Описывать его смешно. Уж лучше снять фотографию: та, по крайней мере, передаст все подробности. Мы были на одном из уступов горы, на половине ее высоты… и того нет: под ногами нашими целое море зелени, внизу город, точно игрушка; там чуть-чуть видно, как ползают люди и животные, а дальше вовсе не игрушка — океан; на рейде опять игрушки — корабли, в том числе и наш.
Не хотелось уходить оттуда, а пора, да и жарко. Но я все стоял. «Bella vischta! — сказал я португальцам и потом прибавил: — Grazia», не зная, как сказать им «благодарю». Они поклонились мне, значит, поняли. Можно снять посредством дагерротипа, пожалуй, и море, и небо, и гору с садами, но не нарисуешь этого воздуха, которым дышит грудь, не передашь его легкости и сладости. Много рассказывают о целительности воздуха Мадеры: может быть, действие этого воздуха на здоровье заметно по последствиям; но сладостью, которой он напитан, упиваешься, лишь только ступишь на берег. Я дышал, бывало, воздухом нагорного берега Волги и думал, что нигде лучшего не может быть. Откроешь утром в летний день окно, и в лицо дунет такая свежая, здоровая прохлада. На Мадере я чувствовал ту же свежесть и прохладу волжского воздуха, который пьешь, как чистейшую ключевую воду, да, сверх того, он будто растворен… мадерой, скажете вы? Нет, тонкими ароматами этой удивительной почвы, питающей северные деревья и цветы рядом с тропическими, на каждом клочке земли в несколько сажен, и не отравляющей воздуха никаким ядовитым дыханием жаркого пояса. В этом состоит особенность и знаменитость острова.
Кажется, ни за что не умрешь в этом целебном, полном неги воздухе, в теплой атмосфере, то есть не умрешь от болезни, а от старости разве, и то когда заживешь чужой век. Однако здесь оканчивает жизнь дочь бразильской императрицы, сестра царствующего императора. Но она прибегла к целительности здешнего воздуха уже в последней крайности, как прибегают к первому знаменитому врачу — поздно: с часу на час ожидают ее кончины.
Португальцы с выражением глубокого участия сказывали, что принцесса — «sick, very sick (очень плоха)» и сильно страдает. Она живет на самом берегу, в красивом доме, который занимал некогда блаженной памяти его императорское высочество герцог Лейхтенбергский. Капитан над портом, при посещении нашего судна, просил не салютовать флагу, потому что пушечные выстрелы могли бы потревожить больную.
Хороша зима! А кто ж это порхает по кустам, поет? Не наши ли летние гостьи? А там какие это цветы выглядывают из-за забора? Бывают же такие зимы на свете!
Меня понесли с горы другою дорогою, или, лучше сказать, тропинкою, извилистою, узенькою, среди неогороженных садов и виноградников, между хижин. Во всю дорогу в глазах была та же картина, которую вытеснят из памяти только такие же, если будут впереди. Нам попадались все рослые португальцы. Женщины, особенно старые, повязаны платками, и в этом наряде — точь-в-точь наши деревенские бабы. Мы опять остановились у виноградника; это было уже в третий и, как я объявил, в последний раз. Четвертый час — надо было торопиться к обеду. В небольшом домике, или сарае с скамьями, был хозяин виноградника или приказчик; тут же были две женщины. Мне бросилась в глаза красота одной, южная и горячая. Она была высокого роста, смугла, с ярким румянцем, с большими черными глазами и с косой, которая, не укладываясь на голове, падала на шею, — словом, как на картинах пишут римлянок. Другую я едва заметил, хотя она беспрестанно болтала и смеялась.
Она была… старуха.
Прежде нежели я сел на лавку, проводники мои держали уже по кружке и пили. «A signor не хочет вина?» — спросил хозяин. Я покачал головой. «А за здоровье синьоры?» — спросил он, заметив, что я пристально изучаю глазами красавицу. «Вино это нехорошо; красавица лучше стоит», — сказал я. Едва мальчишки перевели ему это, как он вышел вон и вскоре воротился с кружкой другого вина. Он с гордостью и уверенностью подал мне кружку и что-то сказал, чего я не понял. Я поклонился красавице и попробовал. «Да, это не то вино, что подавали проводникам: это положительно хорошая мадера». Я с удовольствием выпил глотка два и передал кружку красавице. Она отпила немного, но я сделал ей знак, чтоб она продолжала; она смеялась и отговаривалась; хозяин сказал что-то, и она кончила кружку. «А за эту?» — сказали проводники. Я обернулся: старуха сидела уже подле меня. Принесли и еще кружку; я опять попробовал за здоровье старой португалки.
Благодарностям не было конца. Все вышли меня провожать, и хозяин, и женщины, награждая разными льстивыми эпитетами.
Мы быстро спустились в город, промчались мимо домов, нескольких отелей, между прочим французского, через площадь. На дороге перегнали меня наши спутники верхом. По дороге пришлось проходить через рынок. Он живо напомнил мне сцену из «Фенеллы»: такая же толпа мужчин и женщин, пестро одетых, да еще, вдобавок, были тут негры, монахи; все это покупает и продает. Рынок заставлен корзинами с фруктами, с рыбой; тут стоймя приставлены к дверям лавок связки сахарного тростника, который режут кусками и продают простому народу как лакомство. Везде лежат кучи зелени, овощей. Вдруг вижу знакомое лицо: это наш спутник, который закупает провизию. Но отчего у него постное лицо? Меня поднесли к нему. «Ах, это вы?» — сказал он, прищурясь и вглядываясь в меня. «А это вы? — сказал я, — что вы так невеселы?» — «Да вот поглядите, — отвечал он, указывая на быка, которого я в толпе народа и не заметил, — что это за бык? В Англии собаки больше: и десяти пудов нет». — «Ну, пойдемте к консулу обедать, — сказал я, — и попробуем, каковы эти быки на вкус». Он вздохнул, и мы отправились.
Быки здесь в самом деле мелки, но говядина очень хороша.
На дворе у консула оба носильщика, спустив меня с носилок, протянули ко мне руки, а за ними мальчишки. «Сколько они просят?» — спросил я консула, который смотрел в окно. Он поговорил с ними. «Дорого просят: три доллара, — сказал он. — Как далеко вы были? где?» Но почем я знал, где я был? Я отдал ему фунт стерлинг и просил заплатить и носильщикам, и мальчишкам. Получив деньги, мальчишки быстро скрылись со двора, а носильщики протянули опять руки. «Чего им?» — спросил я консула. «Пустое, не надо! — кричал консул, махая им рукой, — идите, идите! На водку еще просят. Не давайте…» — «Да они три раза взяли с меня натурою, — сказал я, — теперь вот…» Я бросил им по мелкой монете. Они быстро подобрали и с поклонами, быстрее мальчишек, исчезли со двора. А все на русского человека говорят, что просит на водку: он точно просит; но если поднесут, так он и не попросит; а жителю юга, как вижу теперь, и не поднесут, а он выпьет и все-таки попросит на водку.
Я застал хозяйку в саду. С ней была пожилая дама, вся в черном, начиная с чепца до ботинок; и сама хозяйка тоже; они, должно быть, в трауре. Хозяйка представила меня старушке: «My mother (матушка)», — сказала она. Сад маленький, но чего тут не было? Кофейные деревья, бананы, ананасы, множество цветов. Хозяйка сорвала одну кофейную почку, открыла и показала нам внутри два уже сформировавшиеся кофейные зерна. «Как жаль, что теперь зима! — говорила она, а муж переводил. — Ничего нет! Вот ананасы еще не поспели, — и она указала на гряду известной вам зелени ананасов. — К десерту нечего подать. Одни только бананы!» Зима! Как жаль, что этакая зима! До какой степени могут избаловаться люди! «А это что? посмотрите-ка, ведь это наш зеленый лук!» — сказал Бутаков, сорвал пучок, и мы с ним отведали нашего северного плода.
Консул познакомил нас с сыном, молодым человеком лет двадцати с небольшим. Он только что воротился из Франции, где учился медицине. Я все думал, как обедают по-португальски, и ждал чего-нибудь своего, оригинального; но оказалось, что нынче по-португальски обедают по-английски: после супа на стол разом поставили ростбиф, котлеты и множество блюд со всякой зеленью — все явления знакомые. В этом почти и состоял весь обед. Главным украшением его было вино и десерт. Вино, разумеется, мадера, красная и белая. И та, и другая превосходного качества, особенно красная, как рубин, которая называется здесь тинто. Лучше, кажется, и не выдумаешь вина. Правда, я пил в Петербурге однажды вино, привезенное в подарок отсюда же, превосходное, но другого рода, из сладких вин, известное под названием мальвази-мадеры. Красная мадера не имеет ни малейшей сладости; это капитальное вино и нам показалось несравненно выше белой, madeire secco, которую мы только попробовали, а на другие вина и не смотрели.
Десерт состоял из апельсинов, варенья, бананов, гранат; еще были тут называемые по-английски кастард-эппльз (custard apples) плоды, похожие видом и на грушу, и на яблоко, с белым мясом, с черными семенами. И эти были неспелые. Хозяева просили нас взять по нескольку плодов с собой и подержать их дня три-четыре и тогда уже есть. Мы так и сделали.
Действительно, нет лучше плода: мягкий, нежный вкус, напоминающий сливочное мороженое и всю свежесть фрукта с тонким ароматом. Плод этот, когда поспеет, надо есть ложечкой. Если не ошибаюсь, по-испански он называется нона. Обед тянулся довольно долго, по-английски, и кончился тоже по-английски: хозяин сказал спич, в котором изъявил удовольствие, что второй раз уже угощает далеких и редких гостей, желал счастливого возвращения и звал вторично к себе.
Уже в сумерки простились мы с португальским семейством, оказавшим нам гостеприимство. Этот день, вырванный из береговой жизни, надолго разлил чувство удовольствия между нами. Внезапно развернувшаяся перед нами картина острова, жаркое солнце, яркий вид города, хотя чужие, но ласковые лица — все это было нежданным, веселым, праздничным мгновением и влило живительную каплю в однообразный, долгий путь. Я забыл о прошедших неудобствах и покойнее смотрел на будущие. Нигде человек не бывает так жалок, дерзок и по временам так внезапно счастлив, как на море. Хозяйка дала нам по букету цветов. Я сказал, что отошлю свой, в подарок от нее, русским женщинам. Она поверила и нарвала мне еще. Я только сел в шлюпку и пустил букет в море.
«Что же это? как можно?» — закричите вы на меня… «А что ж с ним делать? не послать же в самом деле в Россию». — «В стакан поставить да на стол». — «Знаю, знаю. На море это не совсем удобно». — «Так зачем и говорить хозяйке, что пошлете в Россию?» Что это за житье — никогда не солги!
Но пора кончить это письмо… Как? что?.. А что ж о Мадере: об управлении города, о местных властях, о числе жителей, о количестве выделываемого вина, о торговле: цифры, факты — где же все? Вправе ли вы требовать этого от меня? Ведь вы просили писать вам о том, что я сам увижу, а не то, что написано в ведомостях, таблицах, календарях. Здесь все, что я видел в течение 10-ти или 12-ти часов пребывания на Мадере. Жителей всех я не видел, властей тоже и даже не успел хорошенько посетить ни одного виноградника.
Когда мы сели в шлюпку, корабль наш был верстах в пяти; он весь день то подходил к берегу, то отходил от него. Теперь чуть видны были паруса.
Ветер дул северный и довольно свежий, но ровный. Было тепло; северный холод не доносился до берегов Мадеры. Я глядел все назад, на остров: мне хотелось навсегда врезать его в память. Между тем темнота наступала быстро. Облака подвигались на высоту пика, потом вдруг обнажали его вершину, а там опять скрывали ее; казалось, надо было ожидать бури, но ничего не было: тучи только играли с горами. Я обернулся на Мадеру в последний раз: она вся закуталась, как в мантию, в облака, как будто занавес опустился на волшебную картину, и лежала далеко за нами темной массой; впереди довольно уже близко неслась на нас другая масса — наш корабль.
Я послал к вам коротенькое письмо с Мадеры, а это пошлю из первого порта, откуда только ходит почта в Европу; а откуда она не ходит теперь?
До свидания.
Атлантический океан.
23 января 1853.
III. ПЛАВАНИЕ В АТЛАНТИЧЕСКИХ ТРОПИКАХ
Норд-остовый пассат. — Острова Зеленого Мыса. — С.-Яго и Порто-Прайя. — Северный тропик. — Тропическая зима. — Штилевая полоса. — Экватор. — Южный тропик и зюйд-остовый пассат. — Летучие рыбы и акулы. — Опять штили. — Масленица. — Образ жизни на фрегате. — Купанье. — Море и небо.
(ПИСЬМО К В. Г. БЕНЕДИКТОВУ)
В поэтическом и дружеском напутствовании[4 - В послании к И. А. Гончарову, напечатанной в полном собрании стихотворений Бенедиктова — примеч. Гончарова.] вы указали мне, Владимир Григорьевич, обогнуть земной шар. Я не обогнул еще и четверти, а между тем мне захотелось уже побеседовать с вами на необъятной дали, среди волн, на рубеже Атлантического, Южнополярного и Индийского морей, когда вокруг все спит, кроме вахтенного офицера, меня и океана. Мне хочется поверить, так ли далеко «слышен сердечный голос», как предсказали вы? К сожалению, это обстоятельство зависит более от исправности почт, нежели сердец наших.
Хотелось бы верно изобразить вам, где я, что вижу, но о многом говорят чересчур много, а сказать нечего; с другого, напротив, как ни бейся, не снимешь и бледной копии, разве вы дадите взаймы вашего воображения и красок. Я из Англии писал вам, что чудеса выдохлись, праздничные явления обращаются в будничные, да и сами мы уже развращены ранним и заочным знанием так называемых чудес мира, стыдимся этих чудес, торопливо стараемся разоблачить чудо от всякой поэзии, боясь, чтоб нас не заподозрили в вере в чудо или в младенческом влечении к нему: мы выросли и оттого предпочитаем скучать и быть скучными. Где искать поэзии? Одно анализировано, изучено и утратило прелесть тайны, другое прискучило, третье оказалось ребячеством.
Куда же делась поэзия и что делать поэту? Он как будто остался за штатом.
Надеть ли поэзию, как праздничный кафтан, на современную идею или по-прежнему скитаться с ней в родимых полях и лесах, смотреть на луну, нюхать розы, слушать соловьев или, наконец, идти с нею сюда, под эти жаркие небеса? Научите.
Для меня путешествие имеет еще пока не столько прелесть новизны, сколько прелесть воспоминаний. Проходя практически каждый географический урок, я переживаю угасшее, некогда страстное впечатление, какое рождалось с мыслью о далеких странах и морях, и будто переживаю детство и юность. Но подчас бывает досадно. Вот морская карта: она вся испещрена чертами, точками, стрелками и надписями. «В этой широте, — говорит одна надпись, — в таких-то градусах, ты встретишь такие ветры», и притом показаны месяц и число. «Там около этого времени попадешь в ураган», — сказано далее, сказано тоже, как и выйти из него: «А там иди по такой-то параллели, попадешь в муссон, который донесет тебя до Китая, до Японии». Далее еще лучше: «В таком-то градусе увидишь в первый раз акул, а там летучую рыбу» — и точно увидишь. «В 380 ю‹жной› ш‹ироты› и 750 в‹осточной› д‹олготы› сидят, — сказано, — птицы». — «Ну, — думаю, — уж это вздор: не сидят же они там» — и стал следить по карте. Я просил других дать себе знать, когда придем в эти градусы. Утром однажды говорят мне, что пришли: я взял трубу и различил на значительном пространстве черные точки. Подходим ближе: стая морских птиц колыхается на волнах. Наконец, написано, что в атлантических тропиках термометр не показывает более 230 по Реомюру в тени. И точно не показывает.
Одно только не вошло в Реперовы таблицы, не покорилось никаким выкладкам и цифрам, одного только не смог никто записать на карте…
Но дайте договориться до этих чудес по порядку, как я доехал до них.
Я писал вам, как я был очарован островом (и вином тоже) Мадеры. Потом, когда она скрылась у нас из вида, я немного разочаровался. Что это за путешествие на Мадеру? От Испании рукой подать, всего каких-нибудь миль триста! Это госпиталь Европы.
Но вот стали выходить из тридцатых градусов: все теплее и теплее. «Пар костей не ломит», — выдумали поговорку у нас; но эта поговорка заключает отрицательную похвалу теплу от печки, которая, кроме тепла, ничего и не дает организму. А солнечное, и притом здешнее, тепло! Боже мой! что оно делает с человеком? как облегчит от всякой нравственной и физической тягости! точно снимет ношу с плеч и с головы, даст свободу дыханию, чувству, мысли… И так целые многие дни и ночи! Долго мы не выйдем из магического круга этого голубого, вечно сияющего лета. Подумайте, года два все будет лето: сколько в этой перспективе уместится тех коротких мгновений, которые мы, за исключением холода, дождей и туманов, насчитаем в нашем северном миньятюрном лете! «Дед, где мы теперь?» — спросил я однажды. «Я уж вам три раза сегодня говорил; не стану повторять», — ворчит он; потом, по обыкновению, скажет. «Пойдемте, — говорит, — таща меня за рукав на ют, — вон это что? глядите!..» — «Облако». — «Как не облако! посмотрите хорошенько: ну, что?» — «Туча». — «Эх вы, туча! Какая туча? остров Пальма». — «Что вы! Канарские острова!» — «Как же вы не видите?» — «Что ж делать, если здесь облака похожи на берега, а берега на облака. Где же Тенериф?» — спрашиваю я, пронзая взглядом золотой туман и видя только бледно-синий очерк «облака», как казалось мне. «Не увидим, — говорит дед, — мы у него на параллели, только далеко». — «Зайдем в Санта-Круц?» — «Опять зайти: часто будет! Этак никогда не доберемся до Японии». — «А под каким градусом лежит Пальма?» — «Подите посмотрите сами на карте». Я не пошел, зная, что он скажет. И в самом деле сказал. «Под 270. Ведь с вами же вчера целый час толковали». — «Забыл». — «Как же я-то не забываю?» — «На то вы дед. Да что это, пассат, что ли, дует?» — спросил я, а сам придержался за снасть, потому что время от времени покачивало. «Кто его знает? не разберешь! — ворчал дед. — Рано бы, кажется, а похож. Вот подождем денька два-три».
Но денька два-три прошли, перемены не было: тот же ветер нес судно, надувая паруса и навевая на нас прохладу. По-русски приличнее было бы назвать пассат вечным ветром. Он от века дует одинаково, поднимая умеренную зыбь, которая не мешает ни читать, ни писать, ни думать, ни мечтать.
Переход от качки и холода к покою и теплу был так ощутителен, что я с радости не читал и не писал, позволял себе только мечтать — о чем? о Петербурге, о Москве, о вас? Нет, сознаюсь, мечты опережали корабль. Индия, Манила, Сандвичевы острова — все это вертелось у меня в голове, как у пьяного неясные лица его собеседников.
22 января Л. А. Попов, штурманский офицер, за утренним чаем сказал: «Поздравляю: сегодня в восьмом часу мы пересекли Северный тропик». — «А я ночью озяб», — заметил я. «Как так?» — «Так, взял да и озяб: видно, кто-нибудь из нас охладел, или я, или тропики. Я лежал легко одетый под самым люком, а «ночной зефир струил эфир» прямо на меня».
«Ну, что море, что небо? какие краски там? — слышу я ваши вопросы. — Как всходит и заходит заря? как сияют ночи? Все прекрасно — не правда ли?» — «Хорошо, только ничего особенного: так же, как и у нас в хороший летний день…» Вы хмуритесь? А позвольте спросить: разве есть что-нибудь не прекрасное в природе? Отыщите в сердце искру любви к ней, подавленную гранитными городами, сном при свете солнечном и беготней в сумраке и при свете ламп, раздуйте ее и тогда попробуйте выкинуть из картины какую-нибудь некрасивую местность. По крайней мере со мной, а с вами, конечно, и подавно, всегда так было: когда фальшивые и ненормальные явления и ощущения освобождали душу хоть на время от своего ига, когда глаза, привыкшие к стройности улиц и зданий, на минуту, случайно, падали на первый болотный луг, на крутой обрыв берега, всматривались в чащу соснового леса с песчаной почвой, — как полюбишь каждую кочку, песчаный косогор и поросшую мелким кустарником рытвину! Все находило почетное место в моей фантазии, все поступало в капитал тех материалов, из которых слагается нежная, высокая, артистическая сторона жизни. Раз напечатлевшись в душе, эти бледные, но полные своей задумчивой жизни образы остаются там до сей минуты, нужды нет, что рядом с ними теснятся теперь в душу такие праздничные и поразительные явления.
Нужно ли вам поэзии, ярких особенностей природы — не ходите за ними под тропики: рисуйте небо везде, где его увидите, рисуйте с торцовой мостовой Невского проспекта, когда солнце, излив огонь и блеск на крыши домов, протечет чрез Аничков и Полицейский мосты, медленно опустится за Чекуши; когда небо как будто задумается ночью, побледнеет на минуту и вдруг вспыхнет опять, как задумывается и человек, ища мысли: по лицу на мгновенье разольется туман, и потом внезапно озарится оно отысканной мыслью. Запылает небо опять, обольет золотом и Петергоф, и Мурино, и Крестовский остров.
Сознайтесь, что и Мурино, и острова хороши тогда, хорош и Финский залив, как зеркало в богатой раме: и там блестят, играя, жемчуг, изумруды…
Виноват, плавая в тропиках, я очутился в Чекушах и рисую чухонский пейзаж; это, впрочем, потому, что мне еще не шутя нечего сказать о тропиках. Каждый день во всякое время смотрел я на небо, на солнце, на море — и вот мы уже в 140 ‹южной› широты, а небо все такое же, как у нас, то есть повыше, на зените, голубое, к горизонту зеленоватое. Тепло, как у нас в июле, и то за городом, а в городе от камней бывает и жарче. Мы оделись в тропическую форму: в белое, а потом сознались, что если б остались в небелом, так не задохлись бы. Реомюр показывал 220 в тени. Лучи теряют свою жгучую силу на море. Кроме того, палубу смачивали водой и над головой растягивали тент. Кругом не было стен и скал, запирающих воздух, и сквозь снасти свободно веял пассат. Небо часто облачно, так что мы не можем видеть ни восхождения, ни захождения солнца. Оно выходило из-за облаков и садилось в тучи. «Что ж это вы, дед, насказали о тропических жарах, о невиданных ночах, о Южном Кресте? Все, что мы видим, слабо…» — «Теперь зима, январь, — говорит он, обмахиваясь фуражкой и отирая пот, капавший с небритого подбородка, — вот дайте перевалиться за экватор, тогда будет потеплее. А Южный Крест должен быть теперь здесь, вон за левой вантой!» — и он указал коротеньким пальцем на ванту. «Дался им этот Крест, — ворчал дед, спускаясь в люк, — выдумали Крест! И Креста-то никакого нет: просто четыре небольшие звезды… Пойти-ка лучше лечь, а то еще…» — и исчез в люк.
Вверху, однако ж, небо было свободно от туч, и оттуда, как из отверстий какого-то озаренного светом храма, сверкали миллионы огней всеми красками радуги, как не сверкают звезды у нас никогда. Как страстно, горячо светят они! кажется, от них это так тепло по ночам! Эта вечно играющая и что-то будто говорящая на непонятном языке картина неба никогда не надоест глазам. Выйдешь из каюты на полчаса дохнуть ночным воздухом и простоишь в онемении два-три часа, не отрывая взгляда от неба, разве глаза невольно сами сомкнутся от усталости. Затверживаешь узор ближайших созвездий, смотришь на переливы этих зеленых, синих, кровавых огней, потом взгляд утонет в розовой пучине Млечного Пути. Все хочется доискаться, на что намекает это мерцание, какой смысл выходит из этих таинственных, непонятных речей? И уйдешь, не объяснив ничего, но уйдешь в каком-то чаду раздумья и на другой день жадно читаешь опять.
Море… Здесь я в первый раз понял, что значит «синее» море, а до сих пор я знал об этом только от поэтов, в том числе и от вас. Синий цвет там, у нас, на севере, — праздничный наряд моря. Там есть у него другие цвета, в Балтийском, например, желтый, в других морях зеленый, так называемый аквамаринный. Вот наконец я вижу и синее море, какого вы не видали никогда.
Это не слегка сверху окрашенная вода, а густая яхонтовая масса, одинаково синяя на солнце и в тени. Не устанешь любоваться, глядя на роскошное сияние красок на необозримом окружающем нас поле вод.