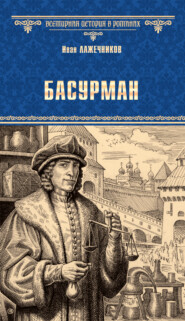По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ледяной дом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но государыня, несмотря на то что перепугана была так, что дрожала всем телом, дернула сильно за шнурок со звонком, чтобы прибежала прислуга, и сердито указала дверь герцогу и кабинет-министру, примолвив:
– Прошу уволить от ваших нежных попечений. Снявши голову, не плачут по волосам. Ступайте…
– Не пойду, ваше величество! – вскричал Волынской, став на колена подле княжны и схватив руку ее, которую старался согреть своим дыханием.
– Какой позор!.. и меня заставляют смотреть на него!.. Вы хотите быть ослушником?.. – сказала грозно императрица, – не заставьте меня в другой раз повторить.
Во время этого ужасного спора подданного с своею государынею Бирон стоял у дверей. Прислуга дворцовая явилась.
– Теперь пойду, – сказал Волынской, встал, посмотрел еще на княжну и вышел; герцог за ним.
Лишь только они успели занести ногу за первый порог, Бирон сказал с коварною усмешкою своему врагу, шедшему в глубокой горести:
– Полюбуйтесь своим дельцем.
Не было ответа. Может статься, Волынской, убитый тем же ударом, который поразил княжну, не слыхал насмешки; может статься, не находил слов для ответа, потому что, оборачивая брошенный ему жетон на ту или другую сторону, везде читал: «достойному награда». Кровавое пятно, им замеченное на белом платке, терзания бедной девушки, у которой он отнял спокойствие, радости, честь, может быть и жизнь; сумасшествие цыганки, столько любившей княжну и связанной с нею какими-то таинственными узами, – все, все дело его. Нельзя отказаться от этих подвигов. Ад его начинался на этой земле; зато путь к нему был усыпан такими розами!..
Выходя из дворца, он был в состоянии человека, который слышит, что за горою режут лучшего его друга. Стоны умирающего под ножом разбойника доходят до него и отдаются в его сердце; а он не может на помощь – ужасная гора их отделяет. Все, наконец, тихо, все мрачно вокруг него… Или не скорее ль можно сравнить состояние его с состоянием человека, который в припадке безумия зарезал своего друга и, опомнившись, стоит над ним?
Глава III
Между двух огней
С этим адом в груди приходит он домой. Взоры его дики; на лице сквозит нечистая совесть; вся наружность искомкана душевною тревогой. По обыкновению, его встречают заботы слуг. Неприятны ему их взгляды; каждый, кажется, хочет проникнуть, что делается у него в душе.
– Прочь к черту! – говорит он им ужасным голосом.
И все с трепетом удаляется, объясняя себе по-своему необыкновенное состояние барина. В тогдашнее время не было в домах ни мужниной, ни жениной половины; все было между ними общее. Не желая встретить жену, Волынской нейдет в дальние покои и остается в зале; то прохаживается по ней тяжелыми, принужденными шагами, будто совесть и в них налила свой свинец, то останавливается вдруг, как бы нашел на него столбняк. Он желал бы убежать из дому, от семейства, от всего света, в леса дремучие, в монастырь; он желал бы провалиться в землю. Везде преследует его кровавое пятно; на всем белом видит он этот ужасный знак.
Наталья Андреевна, узнав, что он возвратился домой, спешит к нему. Он холодно принимает ее ласки; на все вопросы ее, нежную заботливость отвечает несвязно, сухо, едва не с сердцем. Мысль, что с ним случилось несчастие, тревожит ее, она умоляет его открыться. Он грубо ссылается на хандру. Но слезы, блеснувшие в ее глазах, пробивают, наконец, путь к его сердцу. «Довольно и одной жертвы! не эту ли еще убить за любовь ко мне?» – думает он, старается ее успокоить, увлекает в свой кабинет, целует ее и силится забыться в ее ласках. Доброе, милое это существо радуется своей победе, торжествует ее разными пламенными изъяснениями любви своей; она уже не та тихая, только что нежная супруга, которую некогда упрекал Волынской в холодности, – она страстная любовница, утончающая свои ласки; она плачет от упоения любви. Но что с нею вдруг?..
Она отпрянула от него, как будто сам сатана ее укусил; она дрожит, будто провели по всему ее телу замороженным железом.
Безумный! среди пламенных изъяснений любви, забывшись, он произнес: милая Марио… и уста его, не договорив околдованного слова, оледенели, и волос его встал дыбом.
– Что ж вы, сударь, не доканчиваете? – сказала Наталья Андреевна, судорожно усмехаясь. Она хотела продолжать, но не могла: ревность задушила ее.
Артемий Петрович почти насильно обвил ее своими руками, как бы заключил ее в волшебный круг, из которого она не могла высвободить себя, целовал ее руки, умолял ее взором; но она, вырвавшись из его объятий, оттолкнула его.
– Прочь, прочь, обманщик, негодный человек! – говорила она рыдая. – Так вот ваша любовь! вот мое сокровище, за которое я не хотела всех богатств мира и за которое нельзя дать гроша!.. Прекрасная любовь! В то время как меня ласкаете, как я думаю быть счастлива, сколько может быть счастливо божье создание, у вас на уме, в сердце ваша молдаванка; ваши ласки, мне расточаемые, принадлежат другой. Я только болванчик, кусок дерева, на котором вам угодно примеривать ваши нежности вашей прелестной, божественной Мариорице. Нет, этого более не будет; я не дойду более до такого позора… И вот причина вашей горести!.. Зачем же было меня обманывать? Давно б мне просто сказать: ты мне постыла, я люблю свою молдаванку, одну ее! Мне было бы легче!.. Повторите мне это теперь и оставьте меня; расстанемся лучше… У меня будет кого любить и без вас – со мною останется мой бог и спаситель, которого вы забыли!..
И несчастная рыдала, ломая себе руки. Ревность заставляла ее говорить то, что она, конечно, не в состоянии была б выполнить. Артемий Петрович стал пред нею на колена, уверял, что хотел ее испытать, божился, что ее одну любит, что ее одну ввек будет любить, что к Мариорице чувствует только сожаление. Истинная любовь легковерна. Наталья Андреевна поверила, но наперед требовала, чтоб он подтвердил свою клятву пред образом спасителя. И он, как бы в храме, пред алтарем, подтвердил ее со слов Натальи Андреевны, диктовавшей ему то, что он должен был сказать для успокоения ее. В этом случае он не думал лицемерить ни перед нею, ни перед богом: от любви к Мариорице, возмущенной такими неудачами и несчастиями, лишенной своего очарования, действительно осталось только глубокое сожаление; но это чувство так сильно возбуждало в нем угрызения совести, что он готов был желать себе скорее смерти. Жизнь его опутана такими дьявольскими сетями; один конец ее мог их разрубить. Любил он истинно свою жену? Да, он дорожил ею с тех пор, как узнал, что она скоро будет матерью его младенца; но могло ли чувство чистое, возвышенное, нераздельное иметь место в сердце, измученном страстью, раскаянием, бедствиями Мариорицы, страхом быть уличенным в связи с нею, бедствиями отечества? Сердце его была одна живая рана.
Наталья во всех случаях жизни любила прибегать к святыне. Вера вознаграждала ее за все потери на земле, осушала ее слезы, святила для нее земные восторги, обещала ей все прекрасное в этом и другом мире. И теперь, успокоенная своим мужем, расставшись с ним, она прошла в свою спальню и там молилась, усердно, со слезами, чтобы господь сохранил ей любовь супруга, который после бога был для нее дороже всего.
Успокоив ее, Волынской хотел также утешить чем-нибудь и бедную девушку, безжалостно брошенную им на смертный одр. Совесть его требовала этого утешения. Он принялся писать к Мариорице. Но при каждом скрипе шагов в ближней комнате, при малейшем шорохе дрожал, как делатель фальшивой монеты. Не она ли идет?.. Ну, если застанет его над письмом к своей сопернице! Артемий Петрович, кажется, боится шелеста от собственных своих движений. Кабинет-министр, который некогда смело шел навстречу грозным спутникам временщика, пыткам, ссылке, казни и смерти, удалый, отважный во всех своих поступках, трусит ныне, как дитя.
Дверь на запор.
Письмо, которое он писал к Мариорице, было орошено слезами, так что по нем сделались пятна. Но лишь только начертал он несколько строк, как стукнули в дверь. Он спешил утереть слезы и бросить письмо под кипу бумаг; рука, дрожащая от страха, отперла дверь. Вошедший слуга доложил, что его превосходительство желают видеть граф Сумин-Купшин, Перокин и Щурхов. Тысячу проклятий их безвременному посещению! Политика и дружба для него теперь госта хуже, чем татары для бывалой Руси. Однако ж велено просить друзей.
Они пришли благодарить за ходатайство об них у государыни и вместе радоваться, что правое их дело начинает торжествовать. Когда б знали они, что обязаны своим освобождением молдаванской княжне! Волынской и не принимает на себя успеха этого дела, а приписывает его только великодушию государыни. Беседа освятилась новою клятвою друзей действовать решительно против врага России и, если он не будет удален от управления государством, требовать, чтобы их опять отвели в крепость.
Как доволен был хозяин, когда гости удалились! Он продолжал и кончил письмо. Арабу поручено доставить его во что б ни стало и сейчас.
Когда княжна была приведена в чувство и государыня оставила ее в ее спальне, уверенная, что ей лучше, горничная ее Груня наэлектризовала ее одним прикосновением к руке. В этой руке очутился клочок бумаги, могучий проводник, возбудивший ее к жизни, полной, совершенной, к жизни любви. При этом было произнесено три волшебные слова: «От Артемия Петровича». Казалось, она встала из гроба и услышала райское пенье. Глаза ее заблистали по-прежнему, грудь ее взволновалась. «Что бы ни было в этой записке, – думала она, целуя ее с восторгом, – я уж счастлива – это знак, что он помнит обо мне».
Задыхаясь, она читала письмо:
«Безумный! до чего довел я тебя?.. И вот небо, которое тебе обещал! Что должен я сделать, чтобы возвратить тебе прежнее спокойствие и счастие? Скажи, милая, бесценная Мариорица, научи меня. Одно слово, одно твое желание – и я спешу исполнить его, хотя бы стоило мне то жизни, хотя б я должен купить твое благополучие муками в здешнем мире и за пределами гроба. Дай малейшую отраду – напиши одно слово о своем здоровье. Ради бога, укрепи себя для лучших дней, или я уничтожу себя, жену, все, что только носит мое имя, что может его носить. Я не усну, если не получу от тебя ответа».
Половина того, что писал Волынской, была ложь; но она сделала свое действие – успокоила, утешила Мариорицу, и цель его была достигнута. Княжна отвечала:
«Ты обещал мне небо на земле – и дал мне его. Виноват ли ты, что не мог сделать его вечным? ведь ты не бог! За блаженство, которое я вкусила, пошли он мне тысячу мук, все не покроет этого блаженства. Ты с своей стороны мне ничего не должен – ты дал мне более, нежели я ожидала; с тобою узнала я благо, какого и самые горячие мечты мои не обещали мне. Теперь мое дело жить и умереть для тебя, для твоего спокойствия, счастия и славы.
Ты плакал? следы твоих слез остались на бумаге – о! для чего пали они на нее? для чего не могла я выпить их моими поцелуями? Боже! и я виною их…
Мне сделалось дурно от слов этого злого человека, Бирона; я к этому не приготовилась, еще не привыкла. Но с этой минуты даю тебе слово не потревожить тебя и тенью огорчения; буду тверда, как любовь моя. Спи, милый друг; сны твои да будут так радостны, как теперь сердце мое».
Ни слова о неудаче свидания, о болезни своей, ни слова о цыганке: она все забыла; она помнит только своего обольстителя. Сердце ее благоухает только одним чувством – похожее на цветок хлопчатой бумаги, который издает тем сильнейший запах, чем далее в него проникает губительный червь: отпадает червь, и благоухание исчезает.
Прочитав письмо, Волынской несколько успокоился; оно убаюкало его совесть, но и в дремоте ее виделись ему страшные грезы. Письмо было сожжено, и пепел брошен в печь, чтобы и следов его не оставалось. Ту же участь имели прежние письма к нему Мариорицы: так сделался он осторожен, боясь попасть с ними под новый ужасный упрек жены. Воспоминания прошлой любви его к княжне разгорелись было при этом случае; он заплатил ей дань несколькими слезами. Но с прежнего его кумира обстоятельства сняли лучи, которыми любил он ее убирать во дни своей страсти, из которых он свил было для нее такой блистательный венец, и сердце его недолго удерживалось на этих воспоминаниях. Незавидна была двусмысленная роль его: надобно было обманывать и любовницу и жену, столь горячо его любивших. Волынской сделался низок в собственных глазах и растерялся. Мог ли он в этом состоянии работать отечеству с прежнею силою и благородством души?.. Всякая жертва требует очищения.
Зуда и на этот случай сказал свое пророческое слово.
Глава IV
Куда ветер подует
Нечистая каморка, худо освещенная сальным огарком в железном подсвечнике. На полках – множество фолиантов с важною и преважною физиономией; большая часть с надгробною надписью: Rollin[130 - Роллен (франц.)]. На других полках обгорелые горшки, накрытые дощечками и книгами; деревянная чаша, пара оловянных ложек, мышеловка, бутылка, заткнутая бумажкой, и еще кое-какая посуда, довольно нечистая. Стол с бумагами, из которых одна кипа придавлена кирпичом (cigit:[131 - здесь погребен (франц.)] сын Одиссея[132 - Одиссей – царь острова Итака, герой поэмы «Одиссея» (ант. миф.).], родившийся на острове Итаке, взлелеянный Минервой[133 - Минерва – богиня мудрости (ант. миф.).] и Фенелоном и зарезанный в Санкт-Петербурге профессором элоквенции); тут же – великанша-чернилица, надутая, как… (не скажу кто, чтобы гусей не раздразнить), песок в коробочке, сложенной из писчей бумаги, и железные съемцы[134 - Съемцы – старинные щипцы, которыми снимали нагар со свечей.] по образу адамовых. В комнате два стула, огромный сундук и постель, на которой подушки черны, как будто готовили на них блины, и одеялом служит тулуп. К стене жмется портрет с бородавкою; подле него туго насаленный парик и хлопушка для мух. Стены вспаханы стихами, писанными мелом, – для вытягивания их нужна бычачья грудь. Роллень? нечеловеческие стихи? бородавка? А! тут, верно, живет любитель муз Тредьяковский. Василий Кириллович занимает одно из седалищ. Голова его с обнаженною макушкою представляет целый земной шар; с одной стороны к свечке, служащей солнцем (как в свете нередко случается, что сальные огарки служат иным солнцами), сияет лучезарный полдень, далее рассвет, ночь и сумрак. Против него, на другом стуле, молодой офицер с красным носом. Ба! да это его благородие Подачкин. Видно, беседуют.
Подачкин. Смотри ж, не забудь. Тебя потребуют к государыне – ты прямо в ноги и расскажи, как стращал тебя Волынской виселицею, плахою, хотел тебя убить из своих рук, коли не скажешь молдаванке, что он вдовец и не станешь носить его писем; как заставлял тебя писать вирши против ее величества и раздавать по народу…
Тредьяковский. Заставлял, конечно… но я и вознести мысль не посягнул.
Подачкин. Уж, разумеется, братец! Слышь? переврешь и недоврешь, в караульню, на палочную.
Тредьяковский. Возлягте упованием своим на меня, как на адамантов камень. Чего не возмогу я исполнить за великие щедроты, которые ниспосылает на меня его светлость! Да не дозволите ли утруждать ваше благородие. Вы, как особа, обретаетесь при высокостепенном господине… удостойте презентовать его светлости недостойное мое стихосложение, в честь его персоны составленное?
Подачкин (качаясь на стуле). А почему ж не так, почему ж? Однако не худо, братец, понимаешь… ну, ты сам разумная голова… без мази и воз с места не тронется, а с нею въедем, пожалуй, хоть в спальню к герцогине.
Тредьяковский отпирает сундук, вынимает из кошки[135 - Кошельки делались из кошачьей кожи, почему и назывались кошками, от того ж должно происходить и слово киса. (Примеч. автора.)] целковый и вручает его с поклонами.
Подачкин. Я там видел у тебя другой.
Ты раздайся, расступись, туга киса;
Хоть глазком одним мигни, моя краса!
Другие электронные книги автора Иван Иванович Лажечников
Басурман




 0
0
Окопировался




 4.67
4.67