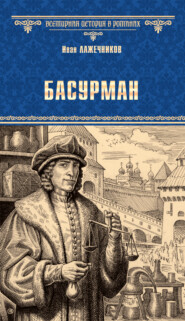По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ледяной дом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Наступает важный случай открыть государыне его своекорыстие: дело об удовлетворении поляков за переход войск чрез их владения, дело, на котором вы столь справедливо основываете свои надежды (вот как нам все известно!), скоро представится на рассмотрение кабинета. При первой возможности доставлю вам нужные заметки и тут же напишу три слова: теперь или никогда! О! тогда скорей, богатырски опрокиньте стену, пред которою дает он фейерверки и за которою душит и режет народ русский; откройте все сердцу государыни… Вы, с вашею благородною смелостью и красноречием, с вашим патриотизмом, с вашим пламенным усердием к пользе и благу императрицы, одни можете совершить этот подвиг. Если вы падете в этом деле, то падете со славою. Тогда-то я откроюсь вам и разделю с вами участь вашу, какова бы она ни была, клянусь вам в этом своею честию. Когда бы вы знали, как горит душа моя быть участником вашим в этой славе! Может статься, чрез сотню лет напишут, поставив мое имя подле вашего: «Россия гордится ими!..» Жить в истории – как это приятно!..
Пишу много; сердце мое имело нужду излиться пред благороднейшим из людей. Давно я не беседую с ними. Случай первый! Герцог, отдав мне письмо к вам, уехал во дворец, куда был неожиданно позван, только что из него приехавши.
Теперь исполняю желание ваше узнать о малороссиянине. Это дворянин из черниговской провинции, по прозванью Горденко. Он занимал должность хорунжего в стародубовском повете и умел обратить уже на себя неприятное внимание доимочного приказа тем, что противился повелению герцога ставить за недоимки крестьян разутых в снег и обливать их холодною водою. Услышав однажды об оскорбительных словах, сказанных герцогом одному русскому вельможе, он имел неосторожность произнести: «Побачив бы я, як бы мне то выбрехал бесова батька Бирон». Слова эти доведены до ушей его светлости. Малороссиянин потребован к допросу воеводой, приехавшим нарочно для исследования этого преступления. О! когда дела касаются до личной обиды герцога, они скоро решаются. Оговоренный был в это время очень болен. Он принесен пред судью на простынях и, в наказание за свою неосторожность, должен был услышать от воеводы ругательства, которые не хотел вынести от самого Бирона. Когда ж он, собрав силы, отвечал, как требовала оскорбленная честь дворянина, его пощекотали батогами. Этот способ лечить и жажда мщения возвратили ему вскоре здоровье. Он покинул семейство свое, составил прошение к императрице, в котором описывал жестокости временщика и корыстолюбивые связи его с поляками, ездил по Малороссии собирать к этому прошению подписи важных лиц, успел в своем намерении и пробрался до Твери, где удачно обменил собою простого малороссиянина, которого, в числе других, везли сюда на известный праздник. Но ищейные клевреты Бирона уследили его тотчас по прибытии в Петербург. Здесь, в манеже герцогском, когда делали перекличку всем разноплеменным парам, его не оказалось. Подачкин объявил, что он, вероятно, бежал во время суматохи, случившейся в то время, как их вели в манеж. Прибывших гостей к вам отправили. В самом же деле несчастный был задержан. Расправа была с ним короткая: его свели на задний, нечистый дворик за конюшню. Там, раздев до рубашки и привязав к дерезу, пытали о бумаге, но Горденко успел, видно, сбросить ее или передать. Благородного мученика, окатив десятком ушатов воды, заморозили среди белого дня. Мой приятель Гроснот совершил этот подвиг, как будто выпил стакан пуншу. Впрочем, Липману шепнули, чтоб он спрятал, как знает, концы в воду. Это будет легко ему сделать с помощью силы, грозы и денег.
Ответ герцогу привезите завтра лично, по обыкновению, в приемные часы. Будьте осторожны, не проговоритесь не только словами, но и наружностью. Скрывайте себя до времени, а то все испортите.
В случае нужды во мне для объяснений, вложите вашу записку в расселину среднего камня, на левом углу ограды Летнего сада к Неве».
Прочтя это таинственное послание, в истине которого нельзя было сомневаться, Волынской то предавался радостной мысли, что приобретает новые важные права для обвинения Бирона и освобождения России от ига его, ходил скорыми шагами по комнате, обхватив эту надежду, нянча ее, как любимое дитя свое; то путался в мыслях, отыскивая своего тайного доброжелателя.
Иностранец?.. Их так много окружает курляндского герцога, и ни в одном из них Артемий Петрович не видал особенного к себе участия. Этот?.. Злодей! из одной улыбки его светлости вызовется, вместо меха, своим дыханием разогреть жаровню и изжарить на ней мелким огнем человека, невинного, как младенец. Другой? Глупец! готов стащить на своей спине, не оглядываясь, вьюк чужих злодейств. Третий? Подлец! доставляет за фальшивые определения жене Бирона бриллианты и серебряные сервизы. Четвертый? Родственник клеврета его, Липмана, и ненавидит кабинет-министра. И так далее перебрал он всех, и ни на ком не мог остановиться. Каким образом постиг тайный друг желание его узнать, куда девался малороссиянин?.. Загадка! тайна!.. Голова его пылала, сердце ходило ходенем. Он забыл даже о посланном герцога; но, вспомнив и спросив, узнал, что податель, не дожидаясь ответа, скрылся.
Когда же Волынской хотел доискаться, кто бы мог быть шпионом Липмана в его собственном доме, он, казалось, блуждал, как странник в диком бору, где боится на каждом шагу наступить на ядовитого гада. Что б могло заставить дворовых людей идти в его оговорители? Он считался, по-тогдашнему, милостивым господином. О стульях, бессудной помощи палача, кошках, разделках на конюшне, столь обыкновенных в его время, не было помину в доме. Наказания его, и то за важный проступок, ограничивались удалением от барского лица. Челядинцы, от большого до малого, были одеты исправно, накормлены сыто, получали, сверх того, в каждый годовой праздник по медной гривне и по калачу; их заслуги предкам Волынского ценились как должно; старики были в почтении у младших и нередко удостоивались подачек со стола господского; немощных не отсылали с хлеба долой на собственное пропитание, не призирали в богадельнях, а в их семействах. Добрыми нравами строго дорожили. Сам Артемий Петрович хотя славился волокитством, но в ограде дома целомудрие так уважалось, что раз подслеповатый маршалок, увидев издали девушку на коленах мужчины, поднял весь дом, как будто на пожар; к счастью, объяснилось, что отец ласкал свою дочь. «Не барин, а отец родной! – говорили служители об Артемии Петровиче, – мы живем за ним, как у Христа за пазушкой». Что ж в самом деле могло бы заставить кого из них решиться на оговоры? Они сочли бы того Иудою-предателем. Не барская ли барыня?.. Чем же она может быть недовольна? Гардероба ее станет и на приданое внучатам; деньги пускает она в рост, ласками господ не менее богата.
Впрочем, ее порядочно коверкало, когда дело шло о малороссиянине… может статься, нетерпение видеть сынка офицером?.. Зуда намекал не раз, что это женщина опасная… Да опять, как проведать ей тайны господские, которые говорятся только в кабинете, между самыми близкими друзьями. Зуда?.. Этот мог бы всех скорее!.. При этом слове, мысленно произнесенном, сердце Артемия Петровича облилось кровью. «Нет, – прибавил он, рассуждая сам с собою, то ходя быстрыми шагами по комнате, то садясь на канапе, – сердце отталкивает малейшее на него подозрение. Он лукав, но благороден. Ни денег, ни честей не любит; настоящий Козьма-бессребреник. Из чего ж станет кривить душой и подличать пред фаворитом? Хотел бы он денег? я давно б озолотил его. Чинов? Сколько раз предлагал я вывесть его в чины, но он всегда отказывался от них, считая их за тягость. Он слишком любит спокойствие, чтобы затеять доносы. Это не в его характере. Да к тому ж не могу расстаться с мыслию видеть в нем человека, мне преданного. Десять лет в моем доме! Десять лет раскрывал я ему грудь свою, и в ней читал он до последней тайной буквы!.. Друг мой!.. Нет, нет, лучше погубить себя, чем его подозревать! Не он, не он, не может быть! Но… диавол-дух или человек-диавол, кто бы он ни был, мой домашний шпион, я отыщу его!»
Волынской позвал своего араба.
– Николай! – сказал он ему с особенным чувством, – любишь ли ты меня?
– Когда вы говорите мне слово ласковое, – отвечал тронутый араб, – мне кажется, что со мною говорит старик отец, зарезанный в глазах моих. Вы мне вместо отца, и матери, и родины.
– Ты меня никогда не продавал?
– Я, сударь?.. да я готов отдать за вас жизнь свою, Никола свидетель!
– Слушай же: у нас дома есть недобрый человек, который выносит сор из избы, оговаривает своего барина.
– Знаю!
– Знаешь? – спросил изумленный Волынской. – Кто ж это?
Араб приложил палец к толстым губам своим и покачал головой.
– Говори, я тебе приказываю.
– Не могу, мне Зуда не приказал.
Волынской вспыхнул.
– Так ныне Зуда ваш господин, так он более меня значит! Зуда командует моими людьми против меня!.. Вот каков Зуда!.. Скоро сделается он моим барином; скоро мне воли не будет в своем доме!
Араб бросился в ноги к Артемию Петровичу и сказал:
– Не могу! я поклялся Николою!.. Он говорит, что это для вашего же добра…
«Что за тайна?.. – подумал Артемий Петрович. – Посмотрим, к чему это все ведет!»
– Хорошо! – прибавил он вслух, – встань! делай, что приказал тебе Зуда, молчи о том, что я тебе говорил, и всегда, непременно, становись на карауле у дверей моего кабинета, как скоро будут в нем двое. Да вот и Зуда, легок на помине!
В самом деле, араб только что успел встать, как вошел секретарь кабинет-министра. Смущение на лице господина и слуги встретило его; но он сделал вид, что ничего не примечает, скорчил свою обыкновенную гримасу и, съежившись, ожидал вызова Артемия Петровича начать разговор.
– Выдь вон, – сказал Волынской арабу, потом, обратившись к своему секретарю, произнес ласково: – Ну что слышно о малороссиянине?
– Он пойман и содержится в канцелярии полицеймейстера.
– Пойман?
– Да, ваше превосходительство; что ж тут удивительного?
– От кого ты знаешь эту весть?
– Я сам видел его.
– Видел?.. Какое плутовство!
– Позвольте спросить, о чьем плутовстве вы говорите?
– На, прочти лучше сам это длинное послание, упавшее ко мне с неба, и объясни, как мертвые воскресают в наше время, богатое чудесами.
Волынской подал письмо неизвестного, рассказал, как оно принесено, прилег на диван, всматриваясь, какое впечатление сделает на секретаря чтение бумаги, и, когда увидел, что этот развернул ее и начал рассматривать, спросил, не знаком ли ему почерк руки.
Сощурился Зуда, покачал головкой, отвечал твердо:
– Нет, в первый раз вижу, – и начал чтение. В продолжение его он часто пожимал плечами, потирал себе средину лба пальцем; на лице его то выступала радость, как у обезьяны, поймавшей лакомый кусок, то хмурилось оно, как у обезьяны, когда горячие каштаны обжигают ей лапы. Наконец, Зуда опустил руку с письмом и опять уныло покачал головой.
– Что? прочел ли? – спросил Волынскои.
– Прочел.
– Что ж ты думаешь после этого?
– То, что вас и еще кое-кого знаю, что победа будет на стороне силы, коварства и счастия. Это я думаю, это я вам всегда говорил и советую, как и всегда, уступить временщику. Да! таки уступить!.. Послушайте, какая слава о нем в народе.
– Любопытен знать.
– Он такой фаворит, что нельзя об нем и говорить: как же вы хотите против него действовать?
– Как действовали во все времена против утеснителей своего отечества истинные сыны его; как указывает мне сердце и тайный, но благородный советник!
– Который вас и обстоятельств хорошо не знает, который губит вас и себя, вспомните мое слово. Дайте грозной туче пройти самой. Поберегите себя, друзей, супругу…
– Как? из того, что я могу навлечь на себя немилости, пожалуй – ссылку, казнь, что я могу себя погубить, смотреть мне равнодушно на раны моего отечества; слышать без боли крик русского сердца, раздающийся от края России до другого! Рассказывать ли тебе, как будто ты не знаешь, неистовства, совершающиеся каждый день около нас, не говорю уж о дальних местах? Стоит только раскрыть Петербург. Архипастырь,[17 - Тверской, Феофилакт Лопатинский. (Примеч. автора.)] измученный пытками за веру в истину, которую любит, с которою свыкся еще от детства, оканчивает жизнь в смрадной темнице; иноки, вытащенные из келий и привезенные сюда, чтоб отречься от святого обета, данного богу, и солгать пред ним из угождения немецкому властолюбию; система доносов и шпионства, утонченная до того, что взгляд и движения имеют своих ученых толмачей, сделавшая из каждого дома Тайную канцелярию, из каждого человека – движущийся гроб, где заколочены его чувства, его помыслы; расторгнутые узы приязни, родства, до того, что брат видит в брате подслушника, отец боится встретить в сыне оговорителя; народность, каждый день поруганная; Россия Петрова, широкая, державная, могучая – Россия, о боже мой! угнетенная ныне выходцем, – этого ли мало, чтоб стать ходатаем за нее пред престолом ее государыни и хотя бы самой судьбы?
Здесь Артемий Петрович остановился, посмотрев зорко на секретаря. Этот не думал отвечать. Все, что говорил кабинет-министр, была, к несчастию, горькая существенность, но существенность, которую, при настоящих обстоятельствах и с таким пылким, неосторожным характером, каков был Волынского, нельзя было переменить. Зуда пожал только плечами и покачал опять головой.
Две свечи на бюро тускло горели; огромная тень кабинет-министра быстро двигалась по стене. Он продолжал:
Пишу много; сердце мое имело нужду излиться пред благороднейшим из людей. Давно я не беседую с ними. Случай первый! Герцог, отдав мне письмо к вам, уехал во дворец, куда был неожиданно позван, только что из него приехавши.
Теперь исполняю желание ваше узнать о малороссиянине. Это дворянин из черниговской провинции, по прозванью Горденко. Он занимал должность хорунжего в стародубовском повете и умел обратить уже на себя неприятное внимание доимочного приказа тем, что противился повелению герцога ставить за недоимки крестьян разутых в снег и обливать их холодною водою. Услышав однажды об оскорбительных словах, сказанных герцогом одному русскому вельможе, он имел неосторожность произнести: «Побачив бы я, як бы мне то выбрехал бесова батька Бирон». Слова эти доведены до ушей его светлости. Малороссиянин потребован к допросу воеводой, приехавшим нарочно для исследования этого преступления. О! когда дела касаются до личной обиды герцога, они скоро решаются. Оговоренный был в это время очень болен. Он принесен пред судью на простынях и, в наказание за свою неосторожность, должен был услышать от воеводы ругательства, которые не хотел вынести от самого Бирона. Когда ж он, собрав силы, отвечал, как требовала оскорбленная честь дворянина, его пощекотали батогами. Этот способ лечить и жажда мщения возвратили ему вскоре здоровье. Он покинул семейство свое, составил прошение к императрице, в котором описывал жестокости временщика и корыстолюбивые связи его с поляками, ездил по Малороссии собирать к этому прошению подписи важных лиц, успел в своем намерении и пробрался до Твери, где удачно обменил собою простого малороссиянина, которого, в числе других, везли сюда на известный праздник. Но ищейные клевреты Бирона уследили его тотчас по прибытии в Петербург. Здесь, в манеже герцогском, когда делали перекличку всем разноплеменным парам, его не оказалось. Подачкин объявил, что он, вероятно, бежал во время суматохи, случившейся в то время, как их вели в манеж. Прибывших гостей к вам отправили. В самом же деле несчастный был задержан. Расправа была с ним короткая: его свели на задний, нечистый дворик за конюшню. Там, раздев до рубашки и привязав к дерезу, пытали о бумаге, но Горденко успел, видно, сбросить ее или передать. Благородного мученика, окатив десятком ушатов воды, заморозили среди белого дня. Мой приятель Гроснот совершил этот подвиг, как будто выпил стакан пуншу. Впрочем, Липману шепнули, чтоб он спрятал, как знает, концы в воду. Это будет легко ему сделать с помощью силы, грозы и денег.
Ответ герцогу привезите завтра лично, по обыкновению, в приемные часы. Будьте осторожны, не проговоритесь не только словами, но и наружностью. Скрывайте себя до времени, а то все испортите.
В случае нужды во мне для объяснений, вложите вашу записку в расселину среднего камня, на левом углу ограды Летнего сада к Неве».
Прочтя это таинственное послание, в истине которого нельзя было сомневаться, Волынской то предавался радостной мысли, что приобретает новые важные права для обвинения Бирона и освобождения России от ига его, ходил скорыми шагами по комнате, обхватив эту надежду, нянча ее, как любимое дитя свое; то путался в мыслях, отыскивая своего тайного доброжелателя.
Иностранец?.. Их так много окружает курляндского герцога, и ни в одном из них Артемий Петрович не видал особенного к себе участия. Этот?.. Злодей! из одной улыбки его светлости вызовется, вместо меха, своим дыханием разогреть жаровню и изжарить на ней мелким огнем человека, невинного, как младенец. Другой? Глупец! готов стащить на своей спине, не оглядываясь, вьюк чужих злодейств. Третий? Подлец! доставляет за фальшивые определения жене Бирона бриллианты и серебряные сервизы. Четвертый? Родственник клеврета его, Липмана, и ненавидит кабинет-министра. И так далее перебрал он всех, и ни на ком не мог остановиться. Каким образом постиг тайный друг желание его узнать, куда девался малороссиянин?.. Загадка! тайна!.. Голова его пылала, сердце ходило ходенем. Он забыл даже о посланном герцога; но, вспомнив и спросив, узнал, что податель, не дожидаясь ответа, скрылся.
Когда же Волынской хотел доискаться, кто бы мог быть шпионом Липмана в его собственном доме, он, казалось, блуждал, как странник в диком бору, где боится на каждом шагу наступить на ядовитого гада. Что б могло заставить дворовых людей идти в его оговорители? Он считался, по-тогдашнему, милостивым господином. О стульях, бессудной помощи палача, кошках, разделках на конюшне, столь обыкновенных в его время, не было помину в доме. Наказания его, и то за важный проступок, ограничивались удалением от барского лица. Челядинцы, от большого до малого, были одеты исправно, накормлены сыто, получали, сверх того, в каждый годовой праздник по медной гривне и по калачу; их заслуги предкам Волынского ценились как должно; старики были в почтении у младших и нередко удостоивались подачек со стола господского; немощных не отсылали с хлеба долой на собственное пропитание, не призирали в богадельнях, а в их семействах. Добрыми нравами строго дорожили. Сам Артемий Петрович хотя славился волокитством, но в ограде дома целомудрие так уважалось, что раз подслеповатый маршалок, увидев издали девушку на коленах мужчины, поднял весь дом, как будто на пожар; к счастью, объяснилось, что отец ласкал свою дочь. «Не барин, а отец родной! – говорили служители об Артемии Петровиче, – мы живем за ним, как у Христа за пазушкой». Что ж в самом деле могло бы заставить кого из них решиться на оговоры? Они сочли бы того Иудою-предателем. Не барская ли барыня?.. Чем же она может быть недовольна? Гардероба ее станет и на приданое внучатам; деньги пускает она в рост, ласками господ не менее богата.
Впрочем, ее порядочно коверкало, когда дело шло о малороссиянине… может статься, нетерпение видеть сынка офицером?.. Зуда намекал не раз, что это женщина опасная… Да опять, как проведать ей тайны господские, которые говорятся только в кабинете, между самыми близкими друзьями. Зуда?.. Этот мог бы всех скорее!.. При этом слове, мысленно произнесенном, сердце Артемия Петровича облилось кровью. «Нет, – прибавил он, рассуждая сам с собою, то ходя быстрыми шагами по комнате, то садясь на канапе, – сердце отталкивает малейшее на него подозрение. Он лукав, но благороден. Ни денег, ни честей не любит; настоящий Козьма-бессребреник. Из чего ж станет кривить душой и подличать пред фаворитом? Хотел бы он денег? я давно б озолотил его. Чинов? Сколько раз предлагал я вывесть его в чины, но он всегда отказывался от них, считая их за тягость. Он слишком любит спокойствие, чтобы затеять доносы. Это не в его характере. Да к тому ж не могу расстаться с мыслию видеть в нем человека, мне преданного. Десять лет в моем доме! Десять лет раскрывал я ему грудь свою, и в ней читал он до последней тайной буквы!.. Друг мой!.. Нет, нет, лучше погубить себя, чем его подозревать! Не он, не он, не может быть! Но… диавол-дух или человек-диавол, кто бы он ни был, мой домашний шпион, я отыщу его!»
Волынской позвал своего араба.
– Николай! – сказал он ему с особенным чувством, – любишь ли ты меня?
– Когда вы говорите мне слово ласковое, – отвечал тронутый араб, – мне кажется, что со мною говорит старик отец, зарезанный в глазах моих. Вы мне вместо отца, и матери, и родины.
– Ты меня никогда не продавал?
– Я, сударь?.. да я готов отдать за вас жизнь свою, Никола свидетель!
– Слушай же: у нас дома есть недобрый человек, который выносит сор из избы, оговаривает своего барина.
– Знаю!
– Знаешь? – спросил изумленный Волынской. – Кто ж это?
Араб приложил палец к толстым губам своим и покачал головой.
– Говори, я тебе приказываю.
– Не могу, мне Зуда не приказал.
Волынской вспыхнул.
– Так ныне Зуда ваш господин, так он более меня значит! Зуда командует моими людьми против меня!.. Вот каков Зуда!.. Скоро сделается он моим барином; скоро мне воли не будет в своем доме!
Араб бросился в ноги к Артемию Петровичу и сказал:
– Не могу! я поклялся Николою!.. Он говорит, что это для вашего же добра…
«Что за тайна?.. – подумал Артемий Петрович. – Посмотрим, к чему это все ведет!»
– Хорошо! – прибавил он вслух, – встань! делай, что приказал тебе Зуда, молчи о том, что я тебе говорил, и всегда, непременно, становись на карауле у дверей моего кабинета, как скоро будут в нем двое. Да вот и Зуда, легок на помине!
В самом деле, араб только что успел встать, как вошел секретарь кабинет-министра. Смущение на лице господина и слуги встретило его; но он сделал вид, что ничего не примечает, скорчил свою обыкновенную гримасу и, съежившись, ожидал вызова Артемия Петровича начать разговор.
– Выдь вон, – сказал Волынской арабу, потом, обратившись к своему секретарю, произнес ласково: – Ну что слышно о малороссиянине?
– Он пойман и содержится в канцелярии полицеймейстера.
– Пойман?
– Да, ваше превосходительство; что ж тут удивительного?
– От кого ты знаешь эту весть?
– Я сам видел его.
– Видел?.. Какое плутовство!
– Позвольте спросить, о чьем плутовстве вы говорите?
– На, прочти лучше сам это длинное послание, упавшее ко мне с неба, и объясни, как мертвые воскресают в наше время, богатое чудесами.
Волынской подал письмо неизвестного, рассказал, как оно принесено, прилег на диван, всматриваясь, какое впечатление сделает на секретаря чтение бумаги, и, когда увидел, что этот развернул ее и начал рассматривать, спросил, не знаком ли ему почерк руки.
Сощурился Зуда, покачал головкой, отвечал твердо:
– Нет, в первый раз вижу, – и начал чтение. В продолжение его он часто пожимал плечами, потирал себе средину лба пальцем; на лице его то выступала радость, как у обезьяны, поймавшей лакомый кусок, то хмурилось оно, как у обезьяны, когда горячие каштаны обжигают ей лапы. Наконец, Зуда опустил руку с письмом и опять уныло покачал головой.
– Что? прочел ли? – спросил Волынскои.
– Прочел.
– Что ж ты думаешь после этого?
– То, что вас и еще кое-кого знаю, что победа будет на стороне силы, коварства и счастия. Это я думаю, это я вам всегда говорил и советую, как и всегда, уступить временщику. Да! таки уступить!.. Послушайте, какая слава о нем в народе.
– Любопытен знать.
– Он такой фаворит, что нельзя об нем и говорить: как же вы хотите против него действовать?
– Как действовали во все времена против утеснителей своего отечества истинные сыны его; как указывает мне сердце и тайный, но благородный советник!
– Который вас и обстоятельств хорошо не знает, который губит вас и себя, вспомните мое слово. Дайте грозной туче пройти самой. Поберегите себя, друзей, супругу…
– Как? из того, что я могу навлечь на себя немилости, пожалуй – ссылку, казнь, что я могу себя погубить, смотреть мне равнодушно на раны моего отечества; слышать без боли крик русского сердца, раздающийся от края России до другого! Рассказывать ли тебе, как будто ты не знаешь, неистовства, совершающиеся каждый день около нас, не говорю уж о дальних местах? Стоит только раскрыть Петербург. Архипастырь,[17 - Тверской, Феофилакт Лопатинский. (Примеч. автора.)] измученный пытками за веру в истину, которую любит, с которою свыкся еще от детства, оканчивает жизнь в смрадной темнице; иноки, вытащенные из келий и привезенные сюда, чтоб отречься от святого обета, данного богу, и солгать пред ним из угождения немецкому властолюбию; система доносов и шпионства, утонченная до того, что взгляд и движения имеют своих ученых толмачей, сделавшая из каждого дома Тайную канцелярию, из каждого человека – движущийся гроб, где заколочены его чувства, его помыслы; расторгнутые узы приязни, родства, до того, что брат видит в брате подслушника, отец боится встретить в сыне оговорителя; народность, каждый день поруганная; Россия Петрова, широкая, державная, могучая – Россия, о боже мой! угнетенная ныне выходцем, – этого ли мало, чтоб стать ходатаем за нее пред престолом ее государыни и хотя бы самой судьбы?
Здесь Артемий Петрович остановился, посмотрев зорко на секретаря. Этот не думал отвечать. Все, что говорил кабинет-министр, была, к несчастию, горькая существенность, но существенность, которую, при настоящих обстоятельствах и с таким пылким, неосторожным характером, каков был Волынского, нельзя было переменить. Зуда пожал только плечами и покачал опять головой.
Две свечи на бюро тускло горели; огромная тень кабинет-министра быстро двигалась по стене. Он продолжал:
Другие электронные книги автора Иван Иванович Лажечников
Басурман




 0
0
Окопировался




 4.67
4.67