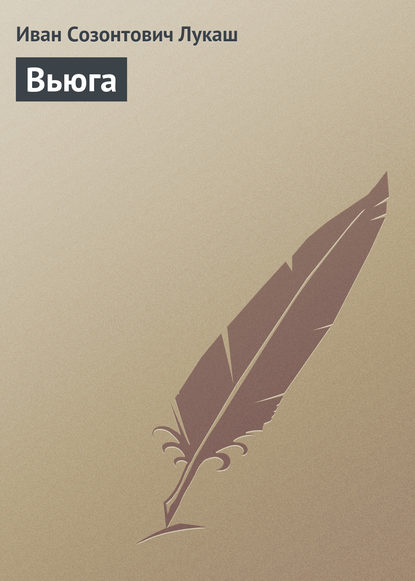По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вьюга
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
До конца останется и его кисловато-грустный запах, который был ему неприятен: вероятно, это был запах медных форменных пуговиц сюртука, окислившихся за многие годы, когда сюртук двигался на нем в сенатское присутствие и обратно.
На нем был еще жилет, крахмальная манишка, белье, какое он не очень любил менять, и сапоги с коротенькими рыжеватыми голенищами некрашеной кожи, припрятанные под штаны.
Удивительнее всего, что, например, подтяжки или сапоги, и запонки, дешевые, с синими камешками, вся его пустая оболочка, в виде просторного темного сюртука и головного убора с потертой чиновничьей кокардой и пропотевшей на донышке кожей, могут остаться после него нетронутыми лет еще сто, двести, а его уже не будет совершенно, он весь исчезнет, и никто не узнает, не полюбопытствует, кто такой был коллежский советник Петр Семенович Маркушин.
Никто на свете: ни мать, как он звал жену, ни дети, старший Николай, ко всему равнодушный, на кого он так надеялся и так боялся ошибиться в надеждах, ни Ольга, о которой он обиженно думал, что она пустельга, хоть шаром покати, ни младший Пашка, тревоживший его, ни те, кто ходил, курил и говорил кругом него в департаменте, ни прохожие, ни все люди на свете и, главное, он сам – так и не узнает, кто же он такой был.
Раньше он что-то понимал, а теперь все стало только страшить его, тяготить. Все труднее с детьми, все больше расходов, будто меркнет все, как перед ночью, и вот ходит его внешняя оболочка, застегнутая в черный сюртук, никому не нужная, непонятная, хмурый незнакомец для всех и для себя.
Теплота, легкость были раньше во всем, беззаботная сила светлого бытия, а теперь словно что-то забыто, потеряно, ушло и уже ничего не вернуть, и ничего впереди, один непроглядный сумрак. Сумрак, смерть.
Маркушина тяготил грузный закат, но он, полуугадывая, что именно тяготит его, старался все свалить на окружающих: мать, которая всегда виновата, Николай, расходы, неприятности с начальством.
Его облегчало такое мельчайшее, ничтожное; оно и есть, может быть, то, чем он подавлен. Это было раздражение стареющего человека на своих близких, оно стало необходимым. В семье начали замечать, что отец подался и поседел.
Это не была старость, но ее приближение, когда человека касается вдруг неясное чувство упущенного, страх, что самое основное, единственное, ради чего стоило жить, не сделано и не понято.
Иногда отцу казалось, что, если объяснить что-то Николаю, все еще может перемениться, пойти иначе.
– Видишь ли, Коля, – начинал он, и сердце замирало. – Я давно хотел с тобою поговорить… Видишь ли, не упусти, брат, жизни. Поторапливайся. Надо университет кончать, пора и мне помочь.
Это было не то, что он желал сказать. Он понимал, что сказать нечего.
Николай слушал отца бледный, с красными ушами. Оттого, что отец хочет, кажется, сказать что-то обидное, Николай отвечал заносчиво и со злостью:
– Но я, папа, кажется, все делаю. Вы могли бы не беспокоиться …
– Да, да, конечно, – соглашался отец, рассеянно думая: «И почему у него такая острая голова». Его раздражала новая привычка Николая подсмаргивать носом. – Я и не беспокоюсь, чего ты злишься, и слова сказать нельзя.
С матерью уже давно, как подросли дети, отец не спал в одной спальне, но по вечерам мать приходила стлать ему постель на кожаном диване, в кабинете.
Она покрывала тюфячок белоснежной простыней и шотландским клетчатым пледом, он тем временем бесшумно ходил по кабинету в своем старом летнем пальто, служившем ему халатом. Он был в очень мягких, как татарские чувяки, сапожках, давно сношенных.
Как бы нехотя, но с любопытством, он спрашивал что-нибудь об Ольге или Пашке. Мать отвечала охотно, хотя знала, что все кончится раздраженными замечаниями, обвинениями. Она так и знала, что у отца во всем виновата.
Очень давно, в первый год замужества, когда она ждала Николеньку, Петр Семенович пришел домой нетрезвый, от него пахло водкой, он затопал на нее ногами, приказал снять с него сапоги. Она сняла ему сапоги и теперь, уже много лет, каждый вечер, покорно подает его чувяки. Когда-то она была бедной портнихой, красивой худенькой девушкой, смешливой, послушной и кроткой. Послушная кротость осталась у нее и теперь.
Мать принимала безропотно, что за домашнее виновата она. Она принимала и то, что Николай равнодушен и груб с ней, что Ольга, раздраженная тем, что не почищены ее тоненькие шевровые башмаки, кидает их ей с такой же злостью, как няньке Алене. Мать думала, что ничего другого она не умеет делать, как только обшивать, чистить и штопать на отца и детей.
Николай и Ольга считали себя во всем умнее матери. Ольга стыдилась, что мать простовата, кажется, плохо грамотна, что при подругах вместо «национальный» как-то сказала «нациальный».
Мать так заботилась о них, так ходила за ними и безропотно принимала от них обиды, грубость, капризы, что Николай и Ольга думали, что так это и должно быть.
Один Пашка помнил прозрачное тепло матери и вечером, когда она штопала носки отцу, надевши очки, потому что дурно стала видеть, забирался к ней на кресло. Он грелся под ее платком и мечтал с открытыми глазами.
Пашка чувствовал, что мать все ему прощает, что для матери он не дурак, не лентяй, как для других. Пашка был последний, поскребушек, и мать смотрела на него с такой улыбкой, от которой ее лицо молодело.
Она вся была в детях, в самых мелочах жизни. Каждый ее день и каждая ночь были одной заботой о мельчайшем, о таком, чего бы никто и не заметил, кроме нее.
Это худое тело, легкую фигурку, бесшумно снующую весь день по дому, пронизывали невидимые токи бытия. Мать, как Сивилла, всегда была в тревогах и в предчувствиях. Николай говорил:
– Мать только тревожится по пустякам…
Но точно одна мать понимала, что все в этом мире неверно, все мчится, как неутихающая буря, с вихрем темных несчастий и смертей, и, если бы ей дана была сила, она остановила бы страшный ход рока, все, чему промчаться неминуемо.
Одна мать в самом ничтожном, в самом мелком боролась с тем, что надвигалось на всех днем и ночью. Она изнемогала в борьбе, какой, впрочем, не замечал никто, и она сама.
После вечернего чая, около одиннадцати часов, когда мать стлала постель в кабинете, отец любил слушать ее разговоры о домашнем, как будто в ее простых словах могла быть отгадка того, что его тяготило.
В темном платье, не менявшемся годами, но все новом и ладном на ее худом теле, мать сидела на кожаном диване.
Из года в год повторялись те же слова, что надобно Паше новую шинель, вырос из старой, Ольге к Рождеству туфельки, мать называла их, как простые петербургские люди, баретками, что Алене пять рублей недоплачено, Вегенерша, говорят, за квартиру прибавит, в мелочной лавке много забрано, Пашка клопов, как будто, занес, надобно выводить скипидаром.
Отцу иногда казалось, что вот-вот она скажет настоящее, необъяснимое, но дрова, кухня, лавочники, картофель, провизия – все было не то.
А мать, позевывая, прикрывая рот продолговатой и красивой рукой, рассказывала о соседях. К студенту, который живет у Вегенерши, бегает одна, в горжеточке, модистка. Мать жалела ее, погибнет.
– Полно тебе, нашла кого жалеть, дур этаких.
Мать умолкала покорно. На его кожаном диване она уже отдохнула немного от вечной битвы, и ей было все равно. Она никогда с ним не спорила.
Отец знал, что сейчас она перекрестит его мелким крестиком, скажет: «Ну, батя, спи», и уйдет.
На диване сидела худенькая стареющая мать, какую он называл раньше Катюшей. Покорное и скромное вдовство сквозило в ней, вечное вдовство, проступающее к пятидесяти годам в каждой женщине, много тревожившейся и работавшей.
На худом лице матери проступал вечер. Ее волосы, зачесанные за уши, поседели на висках, и продолговатые руки, о которых он когда-то говорил: «Таких ручек, как у моей Катюши, ни у кого нет на свете», стали теперь жесткими от стирки, в продольных, темных морщинках, как у пожилых прачек.
От ее рук и от того, как она сидит, покорно позевывая, ему было еще приятнее, что их жизнь прошла.
– Ты бы, мать, себе платье, что ли, новое сшила, – говорил он, едва скрывая за обычной грубостью внезапную и виноватую нежность.
Это так удивляло ее, что она тихо смеялась, легонько хлопала в ладоши:
– Платье? Да что ты, отец, с ума спятил, что ли?! Или мне по театрам ходить?!
– А хотя бы в театры. Ну да ладно, как хочешь.
Много позже от всего детства и отцовского дома осталось у Пашки одно воспоминание, казавшееся ему необыкновенно значительным.
Это было воспоминание об осеннем вечере, в субботу.
В доме был особенно мирный час. В столовой горела лампа под желтым абажуром, от нее покоился на столе тихий круг света. Все двери из комнаты в комнату были отворены. В гостиной полутемно.
Брат Николай в серой тужурке лежал в гостиной на оттоманке, руки – под головой. Лицо у него было хорошим, нежным. Он слушал. За пианино Ольга пела романс о вечерней звезде, которая взошла и сияет. Голос у сестры был приятный, слегка глуховатый.
Отец совершенно тихо ходил по гостиной в своих сапожках, заложивши руки за спину. Пашке казалось, что самое значительное и хорошее не в том, что поет Ольга, он и не слышал слов, а в том, как бесшумной тенью, то попадая в полосу света, то исчезая, ходит отец.
Сам Пашка сидел в третьей комнате, материнской, дверь из зальцы была открыта.
На нем был еще жилет, крахмальная манишка, белье, какое он не очень любил менять, и сапоги с коротенькими рыжеватыми голенищами некрашеной кожи, припрятанные под штаны.
Удивительнее всего, что, например, подтяжки или сапоги, и запонки, дешевые, с синими камешками, вся его пустая оболочка, в виде просторного темного сюртука и головного убора с потертой чиновничьей кокардой и пропотевшей на донышке кожей, могут остаться после него нетронутыми лет еще сто, двести, а его уже не будет совершенно, он весь исчезнет, и никто не узнает, не полюбопытствует, кто такой был коллежский советник Петр Семенович Маркушин.
Никто на свете: ни мать, как он звал жену, ни дети, старший Николай, ко всему равнодушный, на кого он так надеялся и так боялся ошибиться в надеждах, ни Ольга, о которой он обиженно думал, что она пустельга, хоть шаром покати, ни младший Пашка, тревоживший его, ни те, кто ходил, курил и говорил кругом него в департаменте, ни прохожие, ни все люди на свете и, главное, он сам – так и не узнает, кто же он такой был.
Раньше он что-то понимал, а теперь все стало только страшить его, тяготить. Все труднее с детьми, все больше расходов, будто меркнет все, как перед ночью, и вот ходит его внешняя оболочка, застегнутая в черный сюртук, никому не нужная, непонятная, хмурый незнакомец для всех и для себя.
Теплота, легкость были раньше во всем, беззаботная сила светлого бытия, а теперь словно что-то забыто, потеряно, ушло и уже ничего не вернуть, и ничего впереди, один непроглядный сумрак. Сумрак, смерть.
Маркушина тяготил грузный закат, но он, полуугадывая, что именно тяготит его, старался все свалить на окружающих: мать, которая всегда виновата, Николай, расходы, неприятности с начальством.
Его облегчало такое мельчайшее, ничтожное; оно и есть, может быть, то, чем он подавлен. Это было раздражение стареющего человека на своих близких, оно стало необходимым. В семье начали замечать, что отец подался и поседел.
Это не была старость, но ее приближение, когда человека касается вдруг неясное чувство упущенного, страх, что самое основное, единственное, ради чего стоило жить, не сделано и не понято.
Иногда отцу казалось, что, если объяснить что-то Николаю, все еще может перемениться, пойти иначе.
– Видишь ли, Коля, – начинал он, и сердце замирало. – Я давно хотел с тобою поговорить… Видишь ли, не упусти, брат, жизни. Поторапливайся. Надо университет кончать, пора и мне помочь.
Это было не то, что он желал сказать. Он понимал, что сказать нечего.
Николай слушал отца бледный, с красными ушами. Оттого, что отец хочет, кажется, сказать что-то обидное, Николай отвечал заносчиво и со злостью:
– Но я, папа, кажется, все делаю. Вы могли бы не беспокоиться …
– Да, да, конечно, – соглашался отец, рассеянно думая: «И почему у него такая острая голова». Его раздражала новая привычка Николая подсмаргивать носом. – Я и не беспокоюсь, чего ты злишься, и слова сказать нельзя.
С матерью уже давно, как подросли дети, отец не спал в одной спальне, но по вечерам мать приходила стлать ему постель на кожаном диване, в кабинете.
Она покрывала тюфячок белоснежной простыней и шотландским клетчатым пледом, он тем временем бесшумно ходил по кабинету в своем старом летнем пальто, служившем ему халатом. Он был в очень мягких, как татарские чувяки, сапожках, давно сношенных.
Как бы нехотя, но с любопытством, он спрашивал что-нибудь об Ольге или Пашке. Мать отвечала охотно, хотя знала, что все кончится раздраженными замечаниями, обвинениями. Она так и знала, что у отца во всем виновата.
Очень давно, в первый год замужества, когда она ждала Николеньку, Петр Семенович пришел домой нетрезвый, от него пахло водкой, он затопал на нее ногами, приказал снять с него сапоги. Она сняла ему сапоги и теперь, уже много лет, каждый вечер, покорно подает его чувяки. Когда-то она была бедной портнихой, красивой худенькой девушкой, смешливой, послушной и кроткой. Послушная кротость осталась у нее и теперь.
Мать принимала безропотно, что за домашнее виновата она. Она принимала и то, что Николай равнодушен и груб с ней, что Ольга, раздраженная тем, что не почищены ее тоненькие шевровые башмаки, кидает их ей с такой же злостью, как няньке Алене. Мать думала, что ничего другого она не умеет делать, как только обшивать, чистить и штопать на отца и детей.
Николай и Ольга считали себя во всем умнее матери. Ольга стыдилась, что мать простовата, кажется, плохо грамотна, что при подругах вместо «национальный» как-то сказала «нациальный».
Мать так заботилась о них, так ходила за ними и безропотно принимала от них обиды, грубость, капризы, что Николай и Ольга думали, что так это и должно быть.
Один Пашка помнил прозрачное тепло матери и вечером, когда она штопала носки отцу, надевши очки, потому что дурно стала видеть, забирался к ней на кресло. Он грелся под ее платком и мечтал с открытыми глазами.
Пашка чувствовал, что мать все ему прощает, что для матери он не дурак, не лентяй, как для других. Пашка был последний, поскребушек, и мать смотрела на него с такой улыбкой, от которой ее лицо молодело.
Она вся была в детях, в самых мелочах жизни. Каждый ее день и каждая ночь были одной заботой о мельчайшем, о таком, чего бы никто и не заметил, кроме нее.
Это худое тело, легкую фигурку, бесшумно снующую весь день по дому, пронизывали невидимые токи бытия. Мать, как Сивилла, всегда была в тревогах и в предчувствиях. Николай говорил:
– Мать только тревожится по пустякам…
Но точно одна мать понимала, что все в этом мире неверно, все мчится, как неутихающая буря, с вихрем темных несчастий и смертей, и, если бы ей дана была сила, она остановила бы страшный ход рока, все, чему промчаться неминуемо.
Одна мать в самом ничтожном, в самом мелком боролась с тем, что надвигалось на всех днем и ночью. Она изнемогала в борьбе, какой, впрочем, не замечал никто, и она сама.
После вечернего чая, около одиннадцати часов, когда мать стлала постель в кабинете, отец любил слушать ее разговоры о домашнем, как будто в ее простых словах могла быть отгадка того, что его тяготило.
В темном платье, не менявшемся годами, но все новом и ладном на ее худом теле, мать сидела на кожаном диване.
Из года в год повторялись те же слова, что надобно Паше новую шинель, вырос из старой, Ольге к Рождеству туфельки, мать называла их, как простые петербургские люди, баретками, что Алене пять рублей недоплачено, Вегенерша, говорят, за квартиру прибавит, в мелочной лавке много забрано, Пашка клопов, как будто, занес, надобно выводить скипидаром.
Отцу иногда казалось, что вот-вот она скажет настоящее, необъяснимое, но дрова, кухня, лавочники, картофель, провизия – все было не то.
А мать, позевывая, прикрывая рот продолговатой и красивой рукой, рассказывала о соседях. К студенту, который живет у Вегенерши, бегает одна, в горжеточке, модистка. Мать жалела ее, погибнет.
– Полно тебе, нашла кого жалеть, дур этаких.
Мать умолкала покорно. На его кожаном диване она уже отдохнула немного от вечной битвы, и ей было все равно. Она никогда с ним не спорила.
Отец знал, что сейчас она перекрестит его мелким крестиком, скажет: «Ну, батя, спи», и уйдет.
На диване сидела худенькая стареющая мать, какую он называл раньше Катюшей. Покорное и скромное вдовство сквозило в ней, вечное вдовство, проступающее к пятидесяти годам в каждой женщине, много тревожившейся и работавшей.
На худом лице матери проступал вечер. Ее волосы, зачесанные за уши, поседели на висках, и продолговатые руки, о которых он когда-то говорил: «Таких ручек, как у моей Катюши, ни у кого нет на свете», стали теперь жесткими от стирки, в продольных, темных морщинках, как у пожилых прачек.
От ее рук и от того, как она сидит, покорно позевывая, ему было еще приятнее, что их жизнь прошла.
– Ты бы, мать, себе платье, что ли, новое сшила, – говорил он, едва скрывая за обычной грубостью внезапную и виноватую нежность.
Это так удивляло ее, что она тихо смеялась, легонько хлопала в ладоши:
– Платье? Да что ты, отец, с ума спятил, что ли?! Или мне по театрам ходить?!
– А хотя бы в театры. Ну да ладно, как хочешь.
Много позже от всего детства и отцовского дома осталось у Пашки одно воспоминание, казавшееся ему необыкновенно значительным.
Это было воспоминание об осеннем вечере, в субботу.
В доме был особенно мирный час. В столовой горела лампа под желтым абажуром, от нее покоился на столе тихий круг света. Все двери из комнаты в комнату были отворены. В гостиной полутемно.
Брат Николай в серой тужурке лежал в гостиной на оттоманке, руки – под головой. Лицо у него было хорошим, нежным. Он слушал. За пианино Ольга пела романс о вечерней звезде, которая взошла и сияет. Голос у сестры был приятный, слегка глуховатый.
Отец совершенно тихо ходил по гостиной в своих сапожках, заложивши руки за спину. Пашке казалось, что самое значительное и хорошее не в том, что поет Ольга, он и не слышал слов, а в том, как бесшумной тенью, то попадая в полосу света, то исчезая, ходит отец.
Сам Пашка сидел в третьей комнате, материнской, дверь из зальцы была открыта.
Другие электронные книги автора Иван Созонтович Лукаш
«Вопль» Бердяева




 4.67
4.67
Генерал Духонин




 4.67
4.67