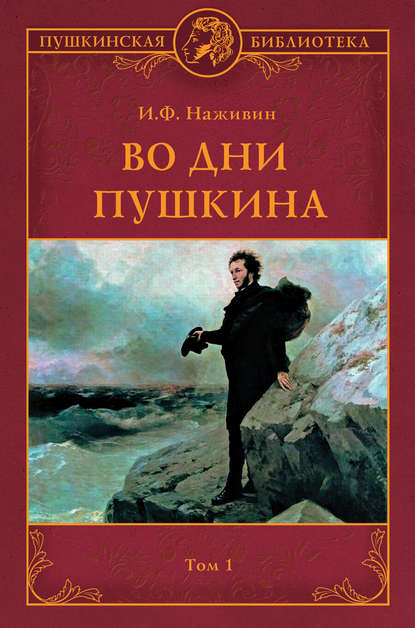По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Во дни Пушкина. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Попик от забавного кощунства михайловского барина поперхнулся, раскашлялся и, улыбаясь виновато, вытирал красным платком вдруг вспотевшую лысину. А вокруг все смеялось. В те времена такие маленькие кощунства были в моде. Все аккуратно говели, причащались, соблюдали посты, а между благочестивыми упражнениями любили эдак остроумно, по старой привычке, побогохульничать немножко…
– Прикажете подать мороженых сливок, барыня?
– Подожди, Акулина Памфиловна, – отвечала хозяйка. – Пускай покушают еще… Александр Сергеевич, а сижка что же?.. Очень удачен…
Лица раскраснелись. Глаза сияли. Стало заметно упираться…
– Ну, а теперь можно подать и мороженых сливок… – распорядилась Прасковья Александровна. – И горяченьких…
Сливки в деревянном корытце выставлялись на мороз и, замерзнув, превращались в белый сладкий монолит. Перед тем как подавать их на стол, их быстро скоблили ножом, и раскаленный блин, в который быстро завертывались эти белые ледяные сладкие опилки, отправлялся по назначению…
– Блаженство неизреченное, отче… А?.. – говорил Пушкин немного охмелевшему попику. – Зиночка, ваше здоровье… по специальному заказу…
Анна Николаевна смотрела на него своими теплыми милыми глазами. В душе ее пела грустная песенка: нет, нет, он не любит ее… А он забыл уже и Зиночку и ухаживал за своей соседкой слева, кудрявой и румяной блондинкой с ямочкой на подбородке. И заметил себе: «Если когда буду описывать ее, то скажу просто: эта девушка выросла среди яблонь… Да от нее и пахнет антоновкой… Однако Борис что-то уж очень миртильничает с Алиной, подлец… Губа не дура…»
– Борис Александрович, Борис Александрович, Борис Александрович! – вдруг зачастил он. – Да помилуйте: где вы? На седьмом небе?.. Ваше здоровье!.. Да здравствуют музы, да здравствует разум!..
Борис с улыбкой поднял свою рюмку.
С блинами было кончено. При всем добром желании дальше не шло. Чтобы освежиться немного, подали чудесные моченые яблоки, варенья всякого, взвару, квасу… Но всему бывает конец. И – зашумели стулья… А потом была музыка, нежная, мечтательная музыка Россини, и прелестные менуэты Рамо, и свои русские романсы, и беготня, и стихи, и ухаживание, а потом Пушкин с Борисом вышли на солнечную поляну и стали стрелять из пистолетов Лепажа в туз, прикрепленный к стене бани. Как всегда, Пушкин отличался и садил пуля в пулю.
– Ах, да бросьте вы вашу трескотню!.. – крикнула им вбежавшая Зиночка. – Поедем лучше кататься…
– Невозможно, божественная… – отвечал Пушкин. – Сильно тает, и лошади проваливаются…
Смеялись – потому что было молодо сердце, потому что радостно грело солнце еще белую землю, потому что было вообще хорошо на свете. А Прасковья Александровна, надев очки и предвкушая удовольствия игры в карты, вела подсчет своим записям в календаре: «20 февраля по висту должен мне г. Пушкин – 1 рубль 50 коп., а я ему – 20 коп., еще 23-го он мне – 1 рубль 70 коп., а я ему – десять коп., еще 26-го он мне – девяносто копеек, а ему – ничего». Подсчитав, с удовольствием увидела, что она в выигрыше, и, аккуратно сложив очки и календарь, встала и пошла по всем комнатам:
– Дети, пить чай!.. Борис Александрович, Александр Сергеевич… Алина… Самовар подан…
– Мамочка, офени пришли! – вдруг радостно крикнула Зина. – Скорее! Александр Сергеевич, идите смотреть, что принесли офени!..
Все молодое бросилось в прихожую. Окруженные женской дворней, двое офень уже раскладывали по полу свои пестрые товары. И хотя, конечно, у них не могло быть ничего, чем могли бы они удивить барышень, тем не менее те так и облепили их.
– Вот ленты девицам-красавицам в косу… – бойко говорил рыжий офеня с веселыми плутоватыми глазами своим бойким вязниковским говорком. – Чистый шелк, глаза у собаки лопни!.. А вот, ежели угодно, крестики для младенцев – золотом горят, а цена всего копейка… Так ли я баю, а?..
Пушкин с любопытством взял у другого офени, непривычного еще и застенчивого парня с голубыми глазами и золотистым пушком по лицу, целую стопку дешевых, ярко размалеванных книжек про Вову Королевича, про шута Балакирева, про Францыл Венциана, про Петра Великого, про святых всяких… А рыжий все сыпал своими прибаутками, все выхвалял свое добро, и одна за другой бабы недоверчиво тянулись за заманчивыми товарами, которые были им совсем не нужны.
– А скажи, братец, правда ли, что у вас, офеней, свой язык есть? – спросил Пушкин рыжего.
– А как же? Нам без этого никак нельзя… – весело отвечал тот, отмахивая на железном аршине какой-то пылающий всеми огнями ситец. – Наше дело торговое. Так ли я баю?.. А колечки-то, барышня, взгляните: огонь-с! Может, у которой суженый есть, так на память подарочек изделать… А это вот платочки по самой последней моде – каков узорец-то?..
– А скажи нам что-нибудь по-офенски… – сказал Пушкин. – Тогда сразу полкороба заберу у тебя для своих дворовых красавиц…
– Со всем нашим полным удовольствием…. – весело осклабился тот и бойко, по-офенски, посыпал: – Мисовой курехой стремыхный бендюх прохандырили трущи; лохи биряли колыги и гомза, кубы биряли бряеть и к устреку кундяков и ягренят; аламонныя карюки курещали курески, ласые мещаты грошались… Ну-с, поняли что-нибудь, господин? – смеялся он.
– Нет. Что это значит?
– По-русскому это значить: нашей деревней проходили третьевось солдаты, мужики угощали их вином и брагой, бабы подавали есть, а в дорогу надавали пирогов, яиц, блинов; красныя девки песни пели, а ребята малыя смеялись… А то у нас есть, которые по херам говорят, – продолжал бахарь-владимирец в то время, как руки его ловко раскидывали перед восхищенными покупателями то пояски с молитовкой, то бусы многоцветные, то сережки совсем вроде золотых, то пуговки, то прошивки, то ярко-красный Страшный суд с страшными черными чертями, то зеленый вид святой Афонской горы с летающими над ней голубыми и розовыми ангелами. – Ну, только это всякий понимать может. По-нашему, например, корова будет, а ежели по херам сказать, то выйдет: херкохеррохерва… Поняли? – спросил он и снова весело оскалился: – Вот эдак-то раз вздумали по херам двое молодцов наших разговаривать. Один и говорит: хербрат, херпойхердем… А тот спрашивает: херкуды? Хер в кабак, говорит. Поглядел, поглядел на них отец, да вдруг тоже по херам и заговори: а херкнут? – говорит. Те так и осели: никак они не ожидали, что и их отец по херам смекает!..
Все дружно захохотали и с восхищением глядели в рот разбитного владимирца. А он уже оделял кого колечком, кому гребень частый всучил, – вот истинное слово, себе в убыток, да уж вижу, девка-то больно хороша!.. – кому моток ниток красных, кому что… Зизи, которой уж надоел ее Мартын Задека, купила себе чудесный новый сонник, а Пушкин – песенник.
– Ты заходи ко мне в Михайловское… – сказал он. – Там ты мне насчет офень расскажешь, а я у тебя весь короб закуплю. Это отсюда всего три версты с хвостиком…
– А хвостик-то велик, сударь? – осклабился тот. – Ну, ничего, обязательно зайдем… А ты там своим скажи, что ежели, де, Хромов, офеня, придет, чтобы его к тебе безо всякого пропустили… Зеркальце? Извольте, красавица… Какова оправа-то?! Чище серебра будет, а цена всему удовольствию три алтына… Как же, и румяна есть… Вот, пожалуйте, заграничныя, первый сорт… Так ли я баю?
Торг разгорался. Прасковья Александровна, однако, уже отвлекла свою молодежь: чай совсем простыл… Дворовые девушки, когда господа ушли, еще горячее раскупали сокровища бойкого владимирца.
И долго спустя после ухода ловкача в большом доме стояло веселое оживление. Но странное дело: как только офеня скрылся, так сразу все распроданные им товары точно стали линять и вызывать все большее и большее чувство разочарования и досады. Это повторялось после посещения офень всегда, но это нисколько не мешало им в следующий раз снова оплести покупателей: потому они, владимирцы, народ хитрай – кого хошь враз заговорят…
После раннего ужина, когда подморозило, Пушкин поехал в темноте домой. Зиночка усердно изучала новый сонник. По деревням полыхали огромные костры – то ребята жгли масленицу – и слышались веселые песни и крик: завтра чистый понедельник и надо нагуляться и надуриться всласть. Но когда приехал он домой, Дуня, вне себя от мук ревности, устроила ему бурную сцену. Арина Родионовна слышала из коридора ее бешеный шепот и сдавленные рыдания и уговоры молодого барина, но потихоньку помалкивала: она знала, что без этого люди не живут…
XI. Слава
Гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега сбежали мутными ручьями на потопленные луга весело гуляющей Сороти. Зашумела всякая птица по полям и лесам. Леса оделись зеленой дымкой. Прелестная купальница покрыла своим золотом все низины. Зацвела черемуха… Земля была раем, переполненным радостью, но Пушкин тосковал в неволе чрезвычайно. Жизнь манила его сразу во все стороны, и ему казалось, что какое-то ослепительное счастье ждет его за этим синим горизонтом. И, раздраженный неволей, он то ссорился со своими тригорскими друзьями, то снова принимался ухаживать за кем-нибудь там, то в годовщину смерти Байрона заказывал удивленному его блогочестием о. Шкоде панихиду по балярине Георгии, то мечтал бежать в Грецию или Америку, заказывал даже себе дорожные чемоданы и искал чрез приятелей пятнадцать тысяч – не больше и не меньше – на это предприятие, и, наконец, вспомнив, что он болен аневризмом, он обратился к Александру чрез своего приятеля Жуковского с французским письмом, прося отпустить его для лечения за границу. Сердитый на беспокойного человека, Александр приказал ответить, что лечиться можно и в Пскове. И Пушкин, ничего от бешенства не видя, снова написал сумасшедшее письмо Жуковскому – для передачи выше:
«Неожиданная милость Его Величества тронула меня несказанно… – писал он яростно. – Я справился о псковских операторах. Мне указали на некоторого Всеволожского, очень искусного по ветеринарной части и известного в ученом мире по своей книге об лечении лошадей. Несмотря на все это, я решился остаться в Михайловском, тем не менее чувствуя отеческую снисходительность Его Величества. Боюсь, чтобы медленность мою пользоваться Монаршей милостью не почли за небрежение или возмутительное упрямство…» Но сейчас же вся эта история представилась ему в смешном виде, и в письме к своему большому приятелю, поэту А.А. Дельвигу, он пишет: «…Идет ли история Карамзина? Где он остановился? Не на избрании ли Романовых? Неблагодарные!.. Шесть Пушкиных подписали избирательную грамоту, да двое руку приложили за неумением писать… А я, грамотный потомок их, что я, где я?..»
Любивший его Жуковский напрасно уговаривал своего буйного друга успокоиться. «До сих пор ты тратил свою жизнь, – писал он, – с недостойною тебя и оскорбительной для нас расточительностью, тратил и физически, и нравственно. Пора уняться. Она была очень забавной эпиграммой, но должна быть возвышенною поэмою…» Пушкин не унимался и все обсуждал с Алексеем Вульфом, сыном Прасковьи Александровны от первого брака, студентом, который приехал на Пасху домой, всякие планы бегства за границу, а в ожидании счастливого дня освобождения он готовил издание своих стихотворений, работал над «Онегиным» и над «Борисом Годуновым» и переписывался со своими многочисленными приятелями и приятельницами. Но летом много писать он не мог и, томясь, целыми днями пропадал в дальних прогулках… Лето разгоралось какою-то купиною неопаляемой и необъятной. Земля нарядная томилась в яру любовном, переполненная радостью жить и дышать. В конце мая, «на девяту», то есть на девятую пятницу от Пасхи, в старом Святогорском монастыре, где лежали его деды Ганнибалы, бывал годичный праздник и ярмарка. Народу в этот день со всех концов Скопской земли сходилось тьма: одни – чтобы помолиться, – в монастыре была очень чтимая псковичами икона Одигитрии Божьей Матери, – другие для того, чтобы закупить, что нужно, на ярмарке, а третьи просто на людях потереться.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Другие электронные книги автора Иван Федорович Наживин
Другие аудиокниги автора Иван Федорович Наживин
Встреча




 0
0