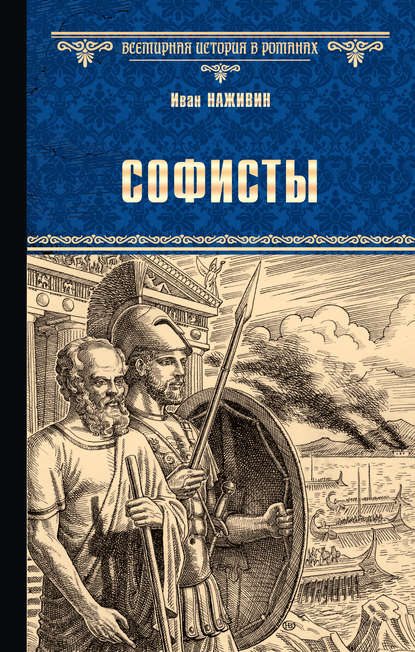По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Софисты
Автор
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, Алкивиад остроумен и… дерзок… – усмехнулся Периклес. – Я помню, раз спросил он меня, что такое закон. Я отвечал, что закон – это то, что постановляет большинство на Пниксе, определяя, что можно делать и чего нельзя. Он ставит вопрос: а если это определяют олигархи? Я говорю, что то, что государственная власть утверждает, какая она ни была бы, то закон. А если, говорит, власть эта – тиран? Я говорю, что и тогда его постановления – закон. И он вдруг в упор: но что же тогда насилие и беззаконие? И в конце концов – твои уроки диалектики он, видимо, использовал хорошо, любезный Сократ, – он выводит заключение: а если толпа народа, негласно руководимая богачами, насильно заставляет подчиняться своим постановлениям, разве это не насилие, а закон? Он так запутал меня, что я смутился и сказал: в твоем возрасте и мы все были сильны в таких спорах. И вдруг мальчишка со смехом бросает мне в лицо: «Как жаль, о Периклес, что я не знал тебя, когда ты был сильнее в таких вопросах!..» А? Что ты на это скажешь?..
Сократ добродушно рассмеялся: он любил вострого Алкивиада.
– А ты что так задумчив сегодня, милый Фидиас? – обратилась Аспазия к знаменитому скульптору, глаза которого все больше наливались чем-то темным. – Или тебя тревожат нападки твоих врагов? Оставь их: Фидиас – это всегда Фидиас. У тебя в Акрополе стоят три таких защитницы, с которыми нашим беспокойным афинянам справиться будет очень трудно…[3 - Кроме Афины Промахос и Афины Партенос, которые стояли на Акрополе, Фидий отлил еще из бронзы по заказу лемнитов и Афину Лемниас.] А Парфенон?..
– Конечно, радости во всей этой грязи мало, но что же тут поделаешь? – сказал Фидиас, и его смуглое, худощавое и красивое лицо с вьющейся черной бородкой затуманилось еще больше. – Фукидит прав: наши афиняне так уж устроены, что они не могут дать покоя ни себе, ни людям…
И он подавил тяжелый вздох. Но он скрыл от Аспазии настоящую причину своего подавленного состояния. Рок захотел, чтобы он полюбил Дрозис, прекрасную гетеру, которая как будто отвечала ему настоящею любовью, но как гетера имела нравы весьма свободные и менять их, по-видимому, не хотела. Она была очень остроумна и над всеми этими добрыми принципами старины смеялась всеми жемчугами своих прелестных зубов. Про нее тихонько говорили, что она будто состояла на тайной службе персидского правительства и извещала его о всех словах и жестах шумных афинян. Теперь Фидиас в свободное от Акрополя время ваял у себя дома большую статую Афродиты, моделью для которой он взял Дрозис – такою, какою он хотел бы видеть ее. Аспазия, догадываясь об истинной причине расстройства знаменитого скульптора, все же сделала вид, что поверила ему, и, снова любуясь своей красивой рукой, заботливо поправила на ней изящное золотое запястье: ей было завидно, что для нее эти сказки были уже кончены. Взгляды толстого Лизикла утешить ее не могли… И с тихим вздохом она перевела свой взгляд на красные изящные полусапожки, которые были зашнурованы так хорошо, что нога казалось голой, но тотчас же решила, что больше она их не наденет: в этой фиванской моде было что-то, что не нравилось ей – простые сандалии куда изящнее.
В перистиль вышел ученик Антисфена, Дорион, небольшого роста, худенький, с добрыми, вдумчивыми глазами, одетый, как и его учитель, с большой простотой. Недавно Сократ с обычной своей прямотой сказал Антисфену, что из каждой дыры его плаща смотрит тщеславие, но угрюмый Антисфен не переменил своего обычая и даже стал носить с собой всегда суму, в которой было все его достояние. О Дорионе этого сказать было никак уж нельзя – да и по отношению к Антисфену тут было меньше правды, чем минутного раздражения. Сократ с напряженным вниманием, как всегда, вглядывался в эту замкнутую душу, которая шла каким-то своим путем и неустанно вела подкапывающую работу, в результате которой было разрушение и – простор. И он в Сократа вглядывался очень пристально, точно видя в нем что-то, чего не видят не только другие, но и сам Сократ. Сократ и все его ученики с изумляющей твердостью верили в силу разума – как Периклес в свою государственную мудрость – и в силу слова человеческого и целые дни были готовы проводить в разговорах о какой-нибудь «истине», а Дориан прежде всего не доверял ни мысли старой, уже воплотившейся, ни мысли новой, разрушающей, а еще меньше – жалкому слову человеческому.
И тут у Периклеса, несмотря на то что от хиосского в головах уже зашумело, начался этот свойственный им разговор о предметах возвышенных.
– Но какая же «истина»? – прожевывая сухую, сладкую фигу, проговорил Протагор. – Истины нет, но истин – много. Мера вещей – человек: и бытия, насколько оно есть, и бытия, насколько его нет. Что для одного истина, то для другого – заблуждение. Сотни раз мы возвращаемся к этому вопросу, но никак не можем остановиться ни на чем. Достаточно послушать наших философов, которые так ожесточенно один другому противоречат – и уже века! – чтобы понять, что истина человеку недоступна…
– Тогда, значит, и то, что ты утверждаешь теперь, не истина, но заблуждение, – бойко сказал Мнезикл, строитель, любивший эти словесные стычки. – А если возвещаемое теперь тобою – заблуждение, то значит, истина есть и мы должны искать ее.
– Ты играешь словами, как самый настоящий софист… – сказал без улыбки Антисфен, принимая новую чашу от Периклеса. – Я думаю, что это воистину общественное бедствие, эта наша новая игра словами: куда ни сунься, везде кричат и спорят о словах…
– Ты слишком строг, Антисфен, – сказал Сократ миролюбиво. – Не надо мешать людям искать истины, красоты, добра. Разум всемогущ, и мы будем лучше, когда хорошенько поверим в его силу. Анаксагор прекрасно говорил, что всему дает порядок и движение разум, всеоживляющая душа, присущая в разной степени всем живым существам, растениям, животным, человеку…
– Но тут встает вопрос, – возразил, сдерживая зевок, Протагор, – что такое этот разум? Как познать его свойства и силы? Конечно, ответа надо искать в человеке, как существе наиболее разумном на земле…
По добрым губам Дориона, под тоненькими молодыми усиками скользнула улыбка, но он ничего не сказал.
Аспазия почувствовала, что хиосского выпито достаточно и что – это она знала по опыту – есть опасность, что легкий философский спор легко может выродиться в неприятные колкости, и потому, опять поправив прекрасное запястье и полюбовавшись белым мрамором руки, проговорила:
– После долгого трудового дня – для меня эти народные праздники труднее всякой работы… – не стоит предаваться философским рассуждениям, друзья мои. А вы вот лучше скажите мне, правда ли, что наш милый Эврипид кончил наконец свою «Медею»…
– Почти… – сказал Фидиас, сделав над собой усилие: он видел, что своей угрюмостью он мешает другим наслаждаться дивным вечером и выдает немножко себя. – Он читал мне некоторые отрывки…
– Ну и?.. – с любопытством спросила Аспазия.
– Меня вообще он… как-то мучит этой своей страстностью, неуверенностью во всем, я лично предпочитаю Эсхила и Софокла, но и у него есть сильные страницы… – сказал Фидиас и опять почувствовал, как болит его сердце об этой ужасной, но милой Дрозис. «A-а, все бросить бы и уехать с ней к ней на Милос…»
Заиграл легкий разговор о театре, драматургах, актерах. Аспазия, исподтишка любуясь собой, цитировала на память авторов и высказывала о них тонкие замечания. Периклес, слышавший их уже не раз, немножко скучал, а Дорион и совсем сдвинул брови: все это казалось ему большими пустяками. Сократ внимательно, как всех и всегда, слушал. Луна, уменьшаясь и бледнея, поднималась все выше и выше над осеребренным городом.
Сократ поднялся первым.
– Ну, надо идти… – сказал он. – А то Ксантиппа опять браниться будет. Сегодня поутру такая гроза была, что…
Он засмеялся и махнул рукой. Засмеялись и все: воинственные выступления Ксантиппы были сказкой всех его приятелей.
– Пора и мне… – сказал Антисфен. – До Киносарга не близко…
– А ты не забыл, Периклес, о празднике у нашего милого Фарсагора? – спросил Сократ. – Это послезавтра. Он очень рассчитывает на честь твоего посещения…
– Ты знаешь, Сократ, что я не бываю нигде… – отозвался Периклес. – Но на этот раз я сделаю маленькое исключение, чтобы показать Фарсагору, как я люблю его и его стихи. Надеюсь, будет не очень многолюдно?
– Нет, нет… – засмеялся Сократ. – Фарсагор твои вкусы знает.
Аспазия попыталась было из вежливости удержать философов, но они мягко настояли на своем. За ними поднялся и Дорион. Периклес проводил друзей до выхода, а там Антисфен, сгорбившись, направился уже затихающими улицами направо, к стадиону, а Сократ с Дорионом – налево: Сократ жил в начале священной Элевзинской дороги, откуда было рукой подать до агоры, Пникса и всех других мест скопления афинян, которые так любил заботливый о благе людей Сократ. Дорион же хотел воспользоваться случаем, чтобы побеседовать с Сократом наедине. Такие возможности были очень редки: Сократ любил многолюдство и всегда был на людях…
Скоро ушел томимый тоской Фидиас, ушли строители и толстый Лизикл, вздыхая, собрался. У Периклеса остался только Протагор. Им надо было переговорить: при последней раздаче наград один из бойцов, состязавшихся в стрельбе из лука, нечаянно убил Эпитемия, фессалийца, и Периклес с Протагором долго ходили теперь по перистилю, сосредоточенно обсуждая вопрос, кто должен был сообразно с разумом и справедливостью быть признан виновным в убийстве: стрела ли, бросивший ли стрелу или, может быть, люди, устроившие состязание?[4 - Может быть, современные государственные деятели, не спускающиеся в своей деятельности ниже всемирных конференций по организации мирного сотрудничества человечества, будут снисходительны к наивному Периклесу и Протагору, если они вспомнят, что еще в XVIII веке, даже в 1845 г. в Европе были судебные процессы, на которых выступали в качестве обвиняемых животные. И – присуждались к казни…]
II. Афинская ночь
Сократу тоже хотелось заглянуть в эту молодую, но такую замкнутую душу, о дерзаниях которой он догадывался. Этим заглядыванием в души он занимался на агоре, в Акрополе, в лагере под осажденной Потидеей, в храмах, в гимназиях, всюду. Но сегодня ему пришлось говорить особенно много, он чувствовал себя усталым и потому пока молчал, с удовольствием вдыхая прохладный ночной воздух, нежно пахнущий фиалкой, любуясь звездами и прислушиваясь к праздничному шуму потихоньку разбредающихся по домам гуляк.
Сократу было под сорок. Он был сыном бедного скульптора Софрониска и повивальной бабки Фенареты из маленького местечка Алопес, лежавшего за Ликабетом в часе небыстрой ходьбы от Афин. Предание говорило, что род Сократа был весьма древний и знатный и восходил будто бы к Дедалу, которому приписывалось введение в Афинах искусств и ремесел и сын которого, Икар, сделал попытку подняться на крыльях к солнцу и – разбился.
Сперва Сократ начал было продолжать дело своего отца и по дороге в Акрополь стояла даже его мраморная группа харит, но потом его увлекла философия и он, послушав знаменитого Продика и геометра Теодора из Кирен, и сам вступил на это поприще: ему – как, впрочем, и всем в этой области – казалось, что он непременно скажет какое-то последнее слово в туманах бездорожной мысли человеческой, все приведет в ясность. Труды предшествовавших и современных ему философов казались ему нелепыми: одни считают, что все сущее – едино, другие, что оно многообразно и раздельно, одни, что все движется, другие, что все находится в полном покое, одни, что все в мире рождается и погибает, другие, что ничего не рождается и ничто не погибает. И ему казалось, что всякая душа человеческая беременна истиной – он не задумывался над этим большим словом слишком пристально, как бы решив, что значение его известно всем и каждому – и нужно только заставить эту душу разродиться. Этот способ извлечения истины из души называл майетикой. Он точно не замечал, что все, кого он подвергал этому своему акушерскому искусству, рожали как раз ту истину, которую ему хотелось видеть рожденной, и что очень часто воспитанники его совсем и не думали эти открытые им истины делать своей путеводной звездой по лабиринтам жизни: «истина» была нужна как будто только для эристики – искусства спорить – а в жизни каждый из них руководился только теми тайными силами, которые, как ветер в ветрилах судна, и двигали его вперед равнинами жизни. Самообманы, которые владеют человеком, воистину бесконечны… Он ходил, слушал, смотрел, помогал истине и стал настолько уже известен, что Аристофан стал даже высмеивать его в своих комедиях.
И вдруг один из его приятелей – худой, как смерть, чудак Херефон, служивший посмешищем всему городу, принес из Дельф, от пифии, ее отзыв о Сократе как о мудрейшем из людей. Действительно ли сказала ему это пифия, или добряк, страстно привязавшийся к Сократу, сам придумал это для вящего прославления философа, неизвестно, но если кто был в Афинах изумлен-таки выступлением пифии, то это прежде всего Сократ. Он и раньше сближался с увлечением с философами из ионийской школы, и элеатской, за знаменитым Зеноном следовал даже на Самос, усердно посещал кружок Периклеса и пр., а теперь он еще больше расширил свои знакомства, бывая у разных поэтов, политиков, ремесленников, оружейника Пистиаса, знаменитой красавицы-гетеры Феодоты, и с удивлением убеждался, что в самом деле все они решительно ничего не знают. И постепенно он уперся в мысль, что знание для человека – единственное благо, а невежество – единственное зло и источник всякого греха. Он совершенно, к великому горю бурной Ксантиппы, забросил семью, которую должен был теперь кормить старший сын ее от первого мужа, Лампроклес, и, если бы не друзья его, которые тихонько помогали ему – другие наставники в мудрости не стеснялись заламывать со своих учеников огромные гонорары, – он и совсем задохнулся бы в нищете. Тогда всякие ремесленники презирались – спартанцы не терпели их, в фивах закон запрещал избирать в магистратуру людей, которые в течение десяти лет не воздерживались от всякого ремесла или торговли, а потом Платон и Аристотель выражали даже мнение, что ремесленники и торговцы не должны пользоваться гражданскими правами – но в особенности презирались люди, продававшие свой умственный труд. Когда Изократ оказался вынужденным открыть школу красноречия и принимать деньги, он плакал от стыда[5 - Лорд Д. Байрон и аристократы, основатели «Эдинбургского Ревью», были чрезвычайно стеснены гонораром за свои первые статьи. Потом, конечно, потихоньку привыкли. Руссо был известен своим отвращением к гонорарам. Толстой говорил об этом с чрезвычайной брезгливостью. Древние евреи считали величайшим позором брать деньги за научение.].
Мысль, что он так, может быть, и упустит случай переговорить с Сократом наедине, заставила Дориона тихонько прокашляться, и он обратился к Сократу:
– Учитель…
– Я совсем не учитель… – живо обернулся к нему Сократ, не терпевший такого титула. – Я такой же ученик, как и ты…
Дорион не мог сдержать улыбки.
– Раз ты всех учишь, значит, ты учитель… – сказал он. – Но не будем спорить. Я хотел задать тебе несколько вопросов о том, что меня в твоих словах смущает…
– Говори, говори, Дорион…
– Первое – это твое постоянное повторение слов Хилона, написанных на дельфийском храме: «Познай самого себя». Люди читают там эту надпись века, но я решительно не вижу, чтобы у них из этого что-нибудь вышло. И потом, это твое: «я знаю только то, что я ничего не знаю»… Раз это так, то надо только молчать, а ты – учишь. Значит, ты знаешь достаточно не только для себя, но и для других даже. Ты то и дело противоречишь самому себе. И из этого надо как-то вылезти. Я не понимаю этого твоего «познай самого себя»…
– Почему? – с удивлением спросил Сократ и даже остановился.
– Да потому, что, если ты только начнешь познавать самого себя, углубишься себе в душу, ты встречаешь на пути – и очень скоро – только глубокий мрак, в котором не видно решительно ничего… И даже до этого конечного мрака, в котором теряется все, видишь ли ты там действительно себя или… только воображаешь это, а на самом деле ловишь только тени. Эта ночь со звездами менее темна, чем та, которую находишь в себе… И если бы я был софистом, который любит играть словами, я указал бы тебе на внутреннее противоречие твоего утверждения, что ты знаешь только то, что ничего не знаешь, ибо если ты знаешь хотя бы только то, что ты ничего не знаешь, то ты никак уже не можешь сказать, что ты не знаешь ничего. Но я не люблю трескотни пустых слов. Я давно уже понял, как бессилен человек в слове своем. Но тут я все же сказал бы вслед за Горгием точнее: я знаю только то, что я знаю. Понятно, этого очень мало, но все же это кое-что. Но из всего того, что я знаю, Сократ, менее всего я знаю и менее всего могу я узнать – себя…
– Продолжай, продолжай… – с интересом сказал Сократ, любовно глядя на нарядно сияющий над засыпающим городом Акрополь. – Продолжай…
– Я не знаю, что такое вот этот Акрополь… – продолжал тот. – Не знаю, что такое эти его совы, которые мягко летают теперь вокруг него с жалобными криками. Не знаю, что такое Афина Промахос, которая стережет в ночи свой город. Я догадываюсь, что никакой Афины нет совсем, но тогда откуда же взял ее Фидиас и зачем? И мне кажется, что она – это частица того меня, которого ты зовешь познать себя и которого познать я все же не могу, – не хочу, ибо я только этого и хочу, но просто не могу, как не могу я видеть глазом того, что происходит за тысячу стадий. Да что там Афина Промахос! Вон за забором воет на луну собака, и я не знаю, что такое собака и что значит этот ее вой. А эти звезды?.. Может быть, если бы я в самом деле мог познать самое трудное, самого себя, так мне раскрылась бы тайна и звезд, и Афины Промахос, и этого воя голодной собаки, которая, вероятно, жалуется в небо на то, что ее забыли накормить… Вот сейчас мы слышали, как Алкивиад прижал к стене Периклеса в разговоре о законах. В самом деле, что такое законы, нужно ли повиноваться им, что такое справедливость и пр.? Может быть, все это ты разрешаешь и правильно, но какое мне дело до какой-то там справедливости или свободы, когда я не знаю того, кто это должен быть справедливым, или свободным, не знаю ни себя, ни тебя, ни Периклеса, ни Протагора, ни кого бы то ни было.
– Ты ставишь большие вопросы, Дорион… – задумчиво сказал Сократ. – Мы подошли уже к моему дому, но я готов стоять с тобой у порога хоть до утра, чтобы, если уж не разрешить твои недоумения, так хоть, по крайней мере, проложить к их разрешению первый путь…
– А разрешение возможно? – посмотрел на него Дорион своими чистыми и строгими глазами.
– Не знаю… – отвечал Сократ, останавливаясь у себя под окнами. – Но я знаю, что, когда я лежал в колыбели, я знал еще меньше. А потом, с годами, я стал знакомиться с жизнью и людьми и потихоньку узнавал кое-что о том, что меня окружает. Из этого я могу заключить без большой возможности ошибки, что с годами, если я не узнаю всего – может быть, это только удел Того, кто стоит за богами-олимпийцами и Кого иногда я чувствую в мире смущенной душой – то все же я узнаю немножко больше. Свинья в грязной луже тупо хрюкает, не подымая глаз в небо – человек бьется о небо, мучается, желая вырвать у него тайну или тайны его молчания. Надо думать, надо биться, а что из этого выйдет, это знают только боги… если они, впрочем, такие, какими мы их себе воображаем, в чем – между нами – я сомневаюсь все больше и больше…
– Извини меня, Сократ, что я тут перебью тебя… – сказал Дорион. – Вот ты говоришь, что ты в колыбели не знал ничего, а мне часто кажется… да, да, только кажется, потому что логика тут бессильна… да и вообще настоящая мысль человеческая живет всегда вне логики… мне кажется, что пока человек, лежа в колыбельке, играет с солнечным лучом, он еще знает кое-что, но по мере того, как он растет, это настоящее знание он точно все более и более забывает. Слышишь, в олеандрах защелкал соловей? Он не посещал гимназии, не разговаривал с мудрыми, но разве можем мы сказать, что он не знает ничего или хотя бы того главного, что составляет самую сердцевину жизни? Ах! – вдруг воскликнул он и схватился за свою золотисто-кудрявую голову. – Вся беда, может быть, в том, что у человека нет достаточно слов, что он может написать для театра трагедию, но он не может высказать самого важного, самого светлого, того, что только его человеком и делает, что… Я уверен, что ты не понял меня, не понял, что я говорил тебе о мудрости ребенка в колыбельке, о соловье в зарослях олеандра, о собаке, воющей за забором…
– Ну, отчего же?.. – сказал Сократ не очень уверенно. – Но в каждой беседе нужен порядок и последовательность. Ты знаешь, что душа, заключенная в твоем теле, управляет им как ей угодно…
– Но я этого совсем не знаю!.. – тихо уронил Дорион, потупившись.
Сократ добродушно рассмеялся: он любил вострого Алкивиада.
– А ты что так задумчив сегодня, милый Фидиас? – обратилась Аспазия к знаменитому скульптору, глаза которого все больше наливались чем-то темным. – Или тебя тревожат нападки твоих врагов? Оставь их: Фидиас – это всегда Фидиас. У тебя в Акрополе стоят три таких защитницы, с которыми нашим беспокойным афинянам справиться будет очень трудно…[3 - Кроме Афины Промахос и Афины Партенос, которые стояли на Акрополе, Фидий отлил еще из бронзы по заказу лемнитов и Афину Лемниас.] А Парфенон?..
– Конечно, радости во всей этой грязи мало, но что же тут поделаешь? – сказал Фидиас, и его смуглое, худощавое и красивое лицо с вьющейся черной бородкой затуманилось еще больше. – Фукидит прав: наши афиняне так уж устроены, что они не могут дать покоя ни себе, ни людям…
И он подавил тяжелый вздох. Но он скрыл от Аспазии настоящую причину своего подавленного состояния. Рок захотел, чтобы он полюбил Дрозис, прекрасную гетеру, которая как будто отвечала ему настоящею любовью, но как гетера имела нравы весьма свободные и менять их, по-видимому, не хотела. Она была очень остроумна и над всеми этими добрыми принципами старины смеялась всеми жемчугами своих прелестных зубов. Про нее тихонько говорили, что она будто состояла на тайной службе персидского правительства и извещала его о всех словах и жестах шумных афинян. Теперь Фидиас в свободное от Акрополя время ваял у себя дома большую статую Афродиты, моделью для которой он взял Дрозис – такою, какою он хотел бы видеть ее. Аспазия, догадываясь об истинной причине расстройства знаменитого скульптора, все же сделала вид, что поверила ему, и, снова любуясь своей красивой рукой, заботливо поправила на ней изящное золотое запястье: ей было завидно, что для нее эти сказки были уже кончены. Взгляды толстого Лизикла утешить ее не могли… И с тихим вздохом она перевела свой взгляд на красные изящные полусапожки, которые были зашнурованы так хорошо, что нога казалось голой, но тотчас же решила, что больше она их не наденет: в этой фиванской моде было что-то, что не нравилось ей – простые сандалии куда изящнее.
В перистиль вышел ученик Антисфена, Дорион, небольшого роста, худенький, с добрыми, вдумчивыми глазами, одетый, как и его учитель, с большой простотой. Недавно Сократ с обычной своей прямотой сказал Антисфену, что из каждой дыры его плаща смотрит тщеславие, но угрюмый Антисфен не переменил своего обычая и даже стал носить с собой всегда суму, в которой было все его достояние. О Дорионе этого сказать было никак уж нельзя – да и по отношению к Антисфену тут было меньше правды, чем минутного раздражения. Сократ с напряженным вниманием, как всегда, вглядывался в эту замкнутую душу, которая шла каким-то своим путем и неустанно вела подкапывающую работу, в результате которой было разрушение и – простор. И он в Сократа вглядывался очень пристально, точно видя в нем что-то, чего не видят не только другие, но и сам Сократ. Сократ и все его ученики с изумляющей твердостью верили в силу разума – как Периклес в свою государственную мудрость – и в силу слова человеческого и целые дни были готовы проводить в разговорах о какой-нибудь «истине», а Дориан прежде всего не доверял ни мысли старой, уже воплотившейся, ни мысли новой, разрушающей, а еще меньше – жалкому слову человеческому.
И тут у Периклеса, несмотря на то что от хиосского в головах уже зашумело, начался этот свойственный им разговор о предметах возвышенных.
– Но какая же «истина»? – прожевывая сухую, сладкую фигу, проговорил Протагор. – Истины нет, но истин – много. Мера вещей – человек: и бытия, насколько оно есть, и бытия, насколько его нет. Что для одного истина, то для другого – заблуждение. Сотни раз мы возвращаемся к этому вопросу, но никак не можем остановиться ни на чем. Достаточно послушать наших философов, которые так ожесточенно один другому противоречат – и уже века! – чтобы понять, что истина человеку недоступна…
– Тогда, значит, и то, что ты утверждаешь теперь, не истина, но заблуждение, – бойко сказал Мнезикл, строитель, любивший эти словесные стычки. – А если возвещаемое теперь тобою – заблуждение, то значит, истина есть и мы должны искать ее.
– Ты играешь словами, как самый настоящий софист… – сказал без улыбки Антисфен, принимая новую чашу от Периклеса. – Я думаю, что это воистину общественное бедствие, эта наша новая игра словами: куда ни сунься, везде кричат и спорят о словах…
– Ты слишком строг, Антисфен, – сказал Сократ миролюбиво. – Не надо мешать людям искать истины, красоты, добра. Разум всемогущ, и мы будем лучше, когда хорошенько поверим в его силу. Анаксагор прекрасно говорил, что всему дает порядок и движение разум, всеоживляющая душа, присущая в разной степени всем живым существам, растениям, животным, человеку…
– Но тут встает вопрос, – возразил, сдерживая зевок, Протагор, – что такое этот разум? Как познать его свойства и силы? Конечно, ответа надо искать в человеке, как существе наиболее разумном на земле…
По добрым губам Дориона, под тоненькими молодыми усиками скользнула улыбка, но он ничего не сказал.
Аспазия почувствовала, что хиосского выпито достаточно и что – это она знала по опыту – есть опасность, что легкий философский спор легко может выродиться в неприятные колкости, и потому, опять поправив прекрасное запястье и полюбовавшись белым мрамором руки, проговорила:
– После долгого трудового дня – для меня эти народные праздники труднее всякой работы… – не стоит предаваться философским рассуждениям, друзья мои. А вы вот лучше скажите мне, правда ли, что наш милый Эврипид кончил наконец свою «Медею»…
– Почти… – сказал Фидиас, сделав над собой усилие: он видел, что своей угрюмостью он мешает другим наслаждаться дивным вечером и выдает немножко себя. – Он читал мне некоторые отрывки…
– Ну и?.. – с любопытством спросила Аспазия.
– Меня вообще он… как-то мучит этой своей страстностью, неуверенностью во всем, я лично предпочитаю Эсхила и Софокла, но и у него есть сильные страницы… – сказал Фидиас и опять почувствовал, как болит его сердце об этой ужасной, но милой Дрозис. «A-а, все бросить бы и уехать с ней к ней на Милос…»
Заиграл легкий разговор о театре, драматургах, актерах. Аспазия, исподтишка любуясь собой, цитировала на память авторов и высказывала о них тонкие замечания. Периклес, слышавший их уже не раз, немножко скучал, а Дорион и совсем сдвинул брови: все это казалось ему большими пустяками. Сократ внимательно, как всех и всегда, слушал. Луна, уменьшаясь и бледнея, поднималась все выше и выше над осеребренным городом.
Сократ поднялся первым.
– Ну, надо идти… – сказал он. – А то Ксантиппа опять браниться будет. Сегодня поутру такая гроза была, что…
Он засмеялся и махнул рукой. Засмеялись и все: воинственные выступления Ксантиппы были сказкой всех его приятелей.
– Пора и мне… – сказал Антисфен. – До Киносарга не близко…
– А ты не забыл, Периклес, о празднике у нашего милого Фарсагора? – спросил Сократ. – Это послезавтра. Он очень рассчитывает на честь твоего посещения…
– Ты знаешь, Сократ, что я не бываю нигде… – отозвался Периклес. – Но на этот раз я сделаю маленькое исключение, чтобы показать Фарсагору, как я люблю его и его стихи. Надеюсь, будет не очень многолюдно?
– Нет, нет… – засмеялся Сократ. – Фарсагор твои вкусы знает.
Аспазия попыталась было из вежливости удержать философов, но они мягко настояли на своем. За ними поднялся и Дорион. Периклес проводил друзей до выхода, а там Антисфен, сгорбившись, направился уже затихающими улицами направо, к стадиону, а Сократ с Дорионом – налево: Сократ жил в начале священной Элевзинской дороги, откуда было рукой подать до агоры, Пникса и всех других мест скопления афинян, которые так любил заботливый о благе людей Сократ. Дорион же хотел воспользоваться случаем, чтобы побеседовать с Сократом наедине. Такие возможности были очень редки: Сократ любил многолюдство и всегда был на людях…
Скоро ушел томимый тоской Фидиас, ушли строители и толстый Лизикл, вздыхая, собрался. У Периклеса остался только Протагор. Им надо было переговорить: при последней раздаче наград один из бойцов, состязавшихся в стрельбе из лука, нечаянно убил Эпитемия, фессалийца, и Периклес с Протагором долго ходили теперь по перистилю, сосредоточенно обсуждая вопрос, кто должен был сообразно с разумом и справедливостью быть признан виновным в убийстве: стрела ли, бросивший ли стрелу или, может быть, люди, устроившие состязание?[4 - Может быть, современные государственные деятели, не спускающиеся в своей деятельности ниже всемирных конференций по организации мирного сотрудничества человечества, будут снисходительны к наивному Периклесу и Протагору, если они вспомнят, что еще в XVIII веке, даже в 1845 г. в Европе были судебные процессы, на которых выступали в качестве обвиняемых животные. И – присуждались к казни…]
II. Афинская ночь
Сократу тоже хотелось заглянуть в эту молодую, но такую замкнутую душу, о дерзаниях которой он догадывался. Этим заглядыванием в души он занимался на агоре, в Акрополе, в лагере под осажденной Потидеей, в храмах, в гимназиях, всюду. Но сегодня ему пришлось говорить особенно много, он чувствовал себя усталым и потому пока молчал, с удовольствием вдыхая прохладный ночной воздух, нежно пахнущий фиалкой, любуясь звездами и прислушиваясь к праздничному шуму потихоньку разбредающихся по домам гуляк.
Сократу было под сорок. Он был сыном бедного скульптора Софрониска и повивальной бабки Фенареты из маленького местечка Алопес, лежавшего за Ликабетом в часе небыстрой ходьбы от Афин. Предание говорило, что род Сократа был весьма древний и знатный и восходил будто бы к Дедалу, которому приписывалось введение в Афинах искусств и ремесел и сын которого, Икар, сделал попытку подняться на крыльях к солнцу и – разбился.
Сперва Сократ начал было продолжать дело своего отца и по дороге в Акрополь стояла даже его мраморная группа харит, но потом его увлекла философия и он, послушав знаменитого Продика и геометра Теодора из Кирен, и сам вступил на это поприще: ему – как, впрочем, и всем в этой области – казалось, что он непременно скажет какое-то последнее слово в туманах бездорожной мысли человеческой, все приведет в ясность. Труды предшествовавших и современных ему философов казались ему нелепыми: одни считают, что все сущее – едино, другие, что оно многообразно и раздельно, одни, что все движется, другие, что все находится в полном покое, одни, что все в мире рождается и погибает, другие, что ничего не рождается и ничто не погибает. И ему казалось, что всякая душа человеческая беременна истиной – он не задумывался над этим большим словом слишком пристально, как бы решив, что значение его известно всем и каждому – и нужно только заставить эту душу разродиться. Этот способ извлечения истины из души называл майетикой. Он точно не замечал, что все, кого он подвергал этому своему акушерскому искусству, рожали как раз ту истину, которую ему хотелось видеть рожденной, и что очень часто воспитанники его совсем и не думали эти открытые им истины делать своей путеводной звездой по лабиринтам жизни: «истина» была нужна как будто только для эристики – искусства спорить – а в жизни каждый из них руководился только теми тайными силами, которые, как ветер в ветрилах судна, и двигали его вперед равнинами жизни. Самообманы, которые владеют человеком, воистину бесконечны… Он ходил, слушал, смотрел, помогал истине и стал настолько уже известен, что Аристофан стал даже высмеивать его в своих комедиях.
И вдруг один из его приятелей – худой, как смерть, чудак Херефон, служивший посмешищем всему городу, принес из Дельф, от пифии, ее отзыв о Сократе как о мудрейшем из людей. Действительно ли сказала ему это пифия, или добряк, страстно привязавшийся к Сократу, сам придумал это для вящего прославления философа, неизвестно, но если кто был в Афинах изумлен-таки выступлением пифии, то это прежде всего Сократ. Он и раньше сближался с увлечением с философами из ионийской школы, и элеатской, за знаменитым Зеноном следовал даже на Самос, усердно посещал кружок Периклеса и пр., а теперь он еще больше расширил свои знакомства, бывая у разных поэтов, политиков, ремесленников, оружейника Пистиаса, знаменитой красавицы-гетеры Феодоты, и с удивлением убеждался, что в самом деле все они решительно ничего не знают. И постепенно он уперся в мысль, что знание для человека – единственное благо, а невежество – единственное зло и источник всякого греха. Он совершенно, к великому горю бурной Ксантиппы, забросил семью, которую должен был теперь кормить старший сын ее от первого мужа, Лампроклес, и, если бы не друзья его, которые тихонько помогали ему – другие наставники в мудрости не стеснялись заламывать со своих учеников огромные гонорары, – он и совсем задохнулся бы в нищете. Тогда всякие ремесленники презирались – спартанцы не терпели их, в фивах закон запрещал избирать в магистратуру людей, которые в течение десяти лет не воздерживались от всякого ремесла или торговли, а потом Платон и Аристотель выражали даже мнение, что ремесленники и торговцы не должны пользоваться гражданскими правами – но в особенности презирались люди, продававшие свой умственный труд. Когда Изократ оказался вынужденным открыть школу красноречия и принимать деньги, он плакал от стыда[5 - Лорд Д. Байрон и аристократы, основатели «Эдинбургского Ревью», были чрезвычайно стеснены гонораром за свои первые статьи. Потом, конечно, потихоньку привыкли. Руссо был известен своим отвращением к гонорарам. Толстой говорил об этом с чрезвычайной брезгливостью. Древние евреи считали величайшим позором брать деньги за научение.].
Мысль, что он так, может быть, и упустит случай переговорить с Сократом наедине, заставила Дориона тихонько прокашляться, и он обратился к Сократу:
– Учитель…
– Я совсем не учитель… – живо обернулся к нему Сократ, не терпевший такого титула. – Я такой же ученик, как и ты…
Дорион не мог сдержать улыбки.
– Раз ты всех учишь, значит, ты учитель… – сказал он. – Но не будем спорить. Я хотел задать тебе несколько вопросов о том, что меня в твоих словах смущает…
– Говори, говори, Дорион…
– Первое – это твое постоянное повторение слов Хилона, написанных на дельфийском храме: «Познай самого себя». Люди читают там эту надпись века, но я решительно не вижу, чтобы у них из этого что-нибудь вышло. И потом, это твое: «я знаю только то, что я ничего не знаю»… Раз это так, то надо только молчать, а ты – учишь. Значит, ты знаешь достаточно не только для себя, но и для других даже. Ты то и дело противоречишь самому себе. И из этого надо как-то вылезти. Я не понимаю этого твоего «познай самого себя»…
– Почему? – с удивлением спросил Сократ и даже остановился.
– Да потому, что, если ты только начнешь познавать самого себя, углубишься себе в душу, ты встречаешь на пути – и очень скоро – только глубокий мрак, в котором не видно решительно ничего… И даже до этого конечного мрака, в котором теряется все, видишь ли ты там действительно себя или… только воображаешь это, а на самом деле ловишь только тени. Эта ночь со звездами менее темна, чем та, которую находишь в себе… И если бы я был софистом, который любит играть словами, я указал бы тебе на внутреннее противоречие твоего утверждения, что ты знаешь только то, что ничего не знаешь, ибо если ты знаешь хотя бы только то, что ты ничего не знаешь, то ты никак уже не можешь сказать, что ты не знаешь ничего. Но я не люблю трескотни пустых слов. Я давно уже понял, как бессилен человек в слове своем. Но тут я все же сказал бы вслед за Горгием точнее: я знаю только то, что я знаю. Понятно, этого очень мало, но все же это кое-что. Но из всего того, что я знаю, Сократ, менее всего я знаю и менее всего могу я узнать – себя…
– Продолжай, продолжай… – с интересом сказал Сократ, любовно глядя на нарядно сияющий над засыпающим городом Акрополь. – Продолжай…
– Я не знаю, что такое вот этот Акрополь… – продолжал тот. – Не знаю, что такое эти его совы, которые мягко летают теперь вокруг него с жалобными криками. Не знаю, что такое Афина Промахос, которая стережет в ночи свой город. Я догадываюсь, что никакой Афины нет совсем, но тогда откуда же взял ее Фидиас и зачем? И мне кажется, что она – это частица того меня, которого ты зовешь познать себя и которого познать я все же не могу, – не хочу, ибо я только этого и хочу, но просто не могу, как не могу я видеть глазом того, что происходит за тысячу стадий. Да что там Афина Промахос! Вон за забором воет на луну собака, и я не знаю, что такое собака и что значит этот ее вой. А эти звезды?.. Может быть, если бы я в самом деле мог познать самое трудное, самого себя, так мне раскрылась бы тайна и звезд, и Афины Промахос, и этого воя голодной собаки, которая, вероятно, жалуется в небо на то, что ее забыли накормить… Вот сейчас мы слышали, как Алкивиад прижал к стене Периклеса в разговоре о законах. В самом деле, что такое законы, нужно ли повиноваться им, что такое справедливость и пр.? Может быть, все это ты разрешаешь и правильно, но какое мне дело до какой-то там справедливости или свободы, когда я не знаю того, кто это должен быть справедливым, или свободным, не знаю ни себя, ни тебя, ни Периклеса, ни Протагора, ни кого бы то ни было.
– Ты ставишь большие вопросы, Дорион… – задумчиво сказал Сократ. – Мы подошли уже к моему дому, но я готов стоять с тобой у порога хоть до утра, чтобы, если уж не разрешить твои недоумения, так хоть, по крайней мере, проложить к их разрешению первый путь…
– А разрешение возможно? – посмотрел на него Дорион своими чистыми и строгими глазами.
– Не знаю… – отвечал Сократ, останавливаясь у себя под окнами. – Но я знаю, что, когда я лежал в колыбели, я знал еще меньше. А потом, с годами, я стал знакомиться с жизнью и людьми и потихоньку узнавал кое-что о том, что меня окружает. Из этого я могу заключить без большой возможности ошибки, что с годами, если я не узнаю всего – может быть, это только удел Того, кто стоит за богами-олимпийцами и Кого иногда я чувствую в мире смущенной душой – то все же я узнаю немножко больше. Свинья в грязной луже тупо хрюкает, не подымая глаз в небо – человек бьется о небо, мучается, желая вырвать у него тайну или тайны его молчания. Надо думать, надо биться, а что из этого выйдет, это знают только боги… если они, впрочем, такие, какими мы их себе воображаем, в чем – между нами – я сомневаюсь все больше и больше…
– Извини меня, Сократ, что я тут перебью тебя… – сказал Дорион. – Вот ты говоришь, что ты в колыбели не знал ничего, а мне часто кажется… да, да, только кажется, потому что логика тут бессильна… да и вообще настоящая мысль человеческая живет всегда вне логики… мне кажется, что пока человек, лежа в колыбельке, играет с солнечным лучом, он еще знает кое-что, но по мере того, как он растет, это настоящее знание он точно все более и более забывает. Слышишь, в олеандрах защелкал соловей? Он не посещал гимназии, не разговаривал с мудрыми, но разве можем мы сказать, что он не знает ничего или хотя бы того главного, что составляет самую сердцевину жизни? Ах! – вдруг воскликнул он и схватился за свою золотисто-кудрявую голову. – Вся беда, может быть, в том, что у человека нет достаточно слов, что он может написать для театра трагедию, но он не может высказать самого важного, самого светлого, того, что только его человеком и делает, что… Я уверен, что ты не понял меня, не понял, что я говорил тебе о мудрости ребенка в колыбельке, о соловье в зарослях олеандра, о собаке, воющей за забором…
– Ну, отчего же?.. – сказал Сократ не очень уверенно. – Но в каждой беседе нужен порядок и последовательность. Ты знаешь, что душа, заключенная в твоем теле, управляет им как ей угодно…
– Но я этого совсем не знаю!.. – тихо уронил Дорион, потупившись.
Другие электронные книги автора Иван Федорович Наживин
Другие аудиокниги автора Иван Федорович Наживин
Встреча




 0
0