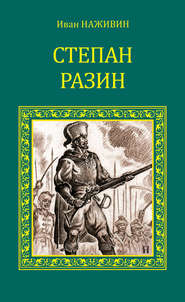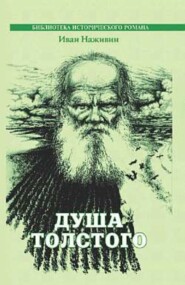По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Степан Разин. Казаки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– За что? – поражённый, глядел на него во все глаза его друг.
– Жил, вишь, он там на фатере у шведа одного, и будто швед тот к жёнке своей Котошихина приревновал. Пришел он раз домой выпимши, это швед-то, затеялась ссора, Котошихин ножом его и ударь. Тот помер, а Григорию Карпычу голову сняли… О-хо-хо-хо…
Григорий Карпович Котошихин был дьяком Посольского приказа, которым управлял Ордын. Был он человеком по своему времени весьма начитанным и умным. За невинную описку в государевом титуле – надо было написать, как писалось исстари, «облаадатель», а он написал с одним «а», «обладатель», – его наказали батогами нещадно. По возвращении домой из поездки для заключения Кардисского мира он узнал, что за его отсутствие у него отняли дом со всеми пожитками: его отец, казначей в одном монастыре, был обвинён в растрате, и хотя потом оказалось, что никакой растраты не было, – не хватило всего пяти алтын, – дом так и не возвратили. В 1664-м году он был в польском походе при князе Юрии Алексеевиче Долгоруком. Воеводы, как всегда, ссорились. Долгорукий настаивал, чтобы подчиненный ему Котошихин, поддержал его донос на князя Якова Черкасского. Котошихин отказался и впал в немилость. И вскоре был уличён он в выдаче шведам тайных документов за сорок рублей и вынужден был бежать за рубеж, где, как рассказывал Ордын, и покончил свои дни под топором палача. Естественно, что вся эта история большой радости партии реформаторов доставить не могла.
– Да, негоже… – покачал головой и Матвеев. – Говорить нечего: негоже…
Они повернули направо, вверх от плавучего моста к Василию Блаженному. Тут стояли две большущих пушки, обращенные дулами на мост, откуда обыкновенно нападали на Москву татары. Ордын от времени до времени поколачивал в небольшой барабан, который был у всякого боярина, чтобы толпа пропустила его. Услыхав этот «боярский набат», все сторонились и кланялись боярину до земли… Стрельцы, болтавшиеся в толпе, низко кланялись Матвееву: он одно время начальствовал над московскими стрельцами. Тут, между кремлёвской стеной и Василием Блаженным, был Вшивый рынок, место стрижки для всех москвичей. Остриженные волосы устилали землю таким густым слоем, что не слышно было ни звука копыт, ни проезжающих телег и повозок. Они выехали на Красную площадь, где, как всегда, кипел оживлённый торг. Гвалт тут был невероятный: торговцы заманивали покупателей, божились, клялись на иконы, били по рукам, ругались и снова крестились на иконы, призывая Бога во свидетели своих мошенств. Безместные попы стояли, ожидая найма, у Василия Блаженного и развлекались от нечего делать кулачным боем и непристойно бранились. Бесчинства их были так велики, что церковное начальство прямо не знало, как их унять. И тут же, громко крича, предлагали они проходящим отслужить сейчас же, на месте, молебен: кто Марии Египетской, кто святому Науму, который, как известно, наставляет на ум, кто Флору и Лавру, богам скотьим, а кто Кирику и Улите. Торговцы блинами, пирогами и оладьями тут же жарили свой духовитый товар на особых жаровенках. Ныли нищие. Какой-то дюжий мужик возил в тележке обрубок человека: то был казнённый за воровские деньги. Прохожие, среди которых было немало простых празднолюбцев, с жалостью смотрели на обрубок этот и бросали ему, набожно крестясь, медяки. Торговцы луком и чесноком, – любимые овощи того времени, – квасом, белилами и румянами, калачами и крестиками оглушали всех своими заливистыми криками. И объезжие головы, и земские ярыжки в своих красных и зелёных кафтанах с вышитыми на груди буквами 3. Я. с трудом поддерживали порядок в этом горластом море людском, а когда слышали крутую матерщину, то без разговора – по приказу самого царя – крушили ругателей по голове и по плечам здоровенными палками.
И вдруг в толпе произошло дикое смятение. Все с криками бросились врассыпную. Безногие обретали ноги, слепые прозревали, у расслабленных вдруг обнаруживались недюжинные силы, изувеченные бросали свои костыли, торговцы – свои товары, мужья – жён, родители – детей, и всё панически торопилось скрыться: на торгу появился небольшой отряд стрельцов, впереди которого шёл со связанными руками человек. На голову его был надет мешок с прорезями для глаз. Это был страшный «язык», обвинённый в страшном «слове и деле» государеве и теперь выведенный на торги и базары, чтобы обнаружить своих сообщников и предать их тут же в руки правосудия. И так как часто случалось, что такие «языки», чтобы отсрочить свою гибель, нарочно запутывали в дело совсем неповинных людей, то при появлении его и обращались все в паническое бегство…
Постукивая в свой набат, Ордын с трудом прокладывал дорогу среди густых толп, теснившихся меж торговых рядов. Были ряды пряничный, птичий, харчевой, калачный, крашенинный, суконный, сапожный, свечной, коробейный, медовый, соляной, домерный, житный, охотный, зелейный и всякие другие. Мимо Аглицкого двора, что стоял у Максима Исповедника, оба выехали на Рыбный рынок, где всегда была такая вонь, что даже ко всему привычные москвичи не выдерживали и затыкали носы. Тут кончался славный Китай-город и начинался Белый город, не менее бойкий и шумный. Звонко цокотали подковы лошадей по деревянной настилке улиц. Вокруг всё та же вонь, пыль, крутая матерщина и пьяные песни. У одного большого кружала стоял на крыльце пьяный дьячок и, нелепо размахивая рукой, что-то громко и весело кричал глазеющей на него толпе. Та гоготала, от удовольствия сплёвывала на сторону и, садя матюгом, лезла всё вперед, чтобы лучше слышать весёлого дьячка. Андрейка, стремянный Ордына, ехавший сзади, пометил с краю толпы странников отца Евдокима и Петра и незаметно лукаво прищурил им глаз, но в это время его боярин что-то обернулся и подметил его смешок.
– Царский бахарь, бачка… – осклабился Андрейка. – Царю шибка сказка сказывал. И песня старинная шибко петь можит, бачка…
– А ты почему знаешь? – спросил Ордын.
– На царском дворе видал, бачка… У-у, тонкий народ, бачка, шибка тонкий!.. Все наскрозь понимать можит, бачка…
Справа показалась красивая церковь Николы на Столпах, приход Матвеева. Все трое сняли шапки и перекрестились.
– А не знаешь, как дело со Стрешневым-то порешили? – спросил Ордын.
На боярина Стрешнева, родственника царёва, было подброшено в Грановитую палату письмо, в котором его обвиняли в волшебстве. Царь, очень боявшийся колдовства, был чрезвычайно смущён и рассержен.
– Дела его плохи… – сказал Матвеев. – Великий государь сказывал, что снимет с него боярство и пошлет в Вологду… Вот что хочешь, то тут и думай…
Они подъехали к небольшой и невзрачной усадьбе Матвеева. Царь не раз и шутя, и серьёзно требовал, чтобы Матвеев построился получше, но тот всегда отговаривался, что ему, худородному человеку, со знатными боярами тягаться не след. Старый слуга Матвеева, Орлик, отворил на стук кольца ворота и принял коней. Это был серьёзный, набожный старик с какими-то особенно милыми, собачьими глазами. Ордын отпустил своего малайку домой: у Матвеева он всегда засиживался. Андрейка осклабился, вытянул коня плетью и, подымая по улице золотистую пыль, поскакал – к кружалу, около которого он только что видел царского бахаря. Он покрутился вокруг, поискал их, но не нашёл и, снова вытянув своего степняка, поскакал домой…
– Ну, чем же мне потчевать тебя прикажешь? – идя к крыльцу, говорил Матвеев. – Вечерять, как будто, рано ещё. Может, выпьешь чего, горло от пыли московской промыть?…
– Брось, Артамон Сергеич… – сказал Ордын. – Ведь я знаю, что и ты не любишь безо время брюхо чем ни попадя набивать. Да и я бражничать не охотник…
– Ну, так тогда нам непошто и в горницу пока идти… Пойдем в саду посидим маленько… Ишь, благодать какая…
Друзья сели на низенькую скамейку под старой, точно молоком облитой, черёмухой. От пряного духа её слегка кружились головы и сладко щемило сердце нежною тоской по какому-то счастью, неведомому, но близкому, всегда возможному.
– Гоже у тебя тут, Артамон Сергеич… – похвалил Ордын. – Не скажешь, что и в Москве…
– Да, наша улица, слава Богу, тихая… – отозвался Матвеев. – Так и живём, ровно в скиту…
– По нонешним временам скит, пожалуй, самое лутчее место для человека… – задумчиво проговорил Ордын, глядя перед собой своими лучистыми, немного печальными глазами.
– Ну… Что ты это?… – пошутил Матвеев. – Ежели все так по скитам забьёмся, как же государство-то стоять будет?…
– Всё горе в том, что прямоты сердца в людях нету… – печально проговорил Ордын. – И во всякой лжи да глупости мы пропадаем, как кутята слепые. Вот говорили мы о шатании людей. С некоторой поры в себе я это самое шатание подмечать стал, вот беда… То, что раньше вернее верного казалось, теперь вдруг точно… не знаю, как и сказать тебе… ну, точно вот всё завяло. Уж я ли не настаивал перед царём, чтобы Ригу нам занять и вообще к морю пробиться, а теперь лежишь и думаешь целыми ночами: да так ли это? Да поможет ли нам море? Вот тот же Котошихин вышел на моря-то, а кончил чем?… Знамо, там словно повольнее жизнь-то, да это ли нам нужно? Ну, да это оставим. А тяжелее всего для меня то, что во всём какая-то гниль у нас заводится, все какими-то косыми да неправедными путями идёт. Вот давеча Годунова вспомнили и всё, что после него было. А разберись по совести: ведь все до единого, что за это время власть один у другого вырывали, только о своей мошне и заботились: как бы поскорее да побольше награбить. Помнишь письмо Шереметева Фёдора Иваныча к Голицыну в Польшу, как они насчёт выбора Миши Романова сговаривались? «Миша-де молод, разумом не дошёл, и нам будет поваден…» А о народе и думушки нет! Конечно, на словах-то поди-ка какими соловьями все разливаются, а посмотришь поближе: обман. Церковь опять возьми. Уж тут ли греху да обману быть, казалось бы: ведь самое святое для человека место! А помнишь, какие штуки Лигарид да и все эти другие бродяги на суде над Никоном выстраивали? Ведь совестно слушать было!.. Если зашло дело о том, какой власти, царёвой али духовной, на первом месте быть, так и решай это дело как по совести, по закону. А помнишь, как Лигарид махнул, что у такого царя, как Алексей Михайлыч злых наследников быть не может и потому подчинение Церкви царю ей вреда не принесёт? И всё это, чтобы выслужиться. И своего добился: его проклял иерусалимский патриарх за латинство, а мы отсюда послали патриарху любительных подарков на тысячу рублёв и тот своё проклятие снял. Где же совесть-то? Где же правда-то? Или опять возьми правление наше. Верно, что трудно теперь одному за всеми непорядками угоняться, верно, что надо бы почаще собирать людей всего государства Московского для суждения о делах государственных, для совещания царя со всенародными человеки, как били о том челом гости и торговые люди лет пять тому назад. А стоит пойти навстречу, как начинается опять всякое мошенство, измена, нестроение. Помнишь, в 1651-м году из Крапивны на собор был какой-то боярский сын Федоска прислан, а потом посадские люди челом били царю, что такого воришку, составщика и пономаришку они не выбирали и что ему у великого государева дела быть нельзя.
– Так то всё воевода подстроил!..
– Всё равно, кто подстроил. И воевода такой же русский человек, как и мы. А как он на дело-то государское смотрит?…
– Вон енисейский воевода Голохвостов надумал отдавать от себя на откуп зернь, и корчму, и безмужных жён, – нешто можно поклеп за это на всех класть?…
– И можно, и должно. Ежели ты себя за всех виноватым не чувствуешь, то несть нам спасения. Все мы – одно… Да. И требуем: собери людей, вопроси совету, слушай земли. Соберут их, а они начинают: «В том во всем твоя государская воля, а нам о том советовать непригоже… Мы на службу готовы, где государь укажет быть». Только всего и мнения у него. Так зачем тогда их и собирать? Вон Крижанич всё печаловался, что не может русская власть середним путем ходить, что во всём она меры не знает, что всё по окраинам да пропастям блуждает. А разве это не от нас?
– Вся беда наша в том, что просвещения книжного в нас нету… – сказал Матвеев. – Царь Михаила Фёдорыч сам едва по складам читал, многие бояре высокие должности занимают, а имени своего подписать не могут… А откуда его, просвещение-то, взять, когда училищ нету, а в чужие края и носу высунуть не смей? А помнишь, Олеария на Москву звали? Ты-де, и астроломию знаешь, и географус, и беги небесные, и нам-де, такие люди нужны, а потом и пяти лет не прошло, этот самый географус в ереси записали! А наши крутолобые-то ещё всё плачут, что больно мягко наше Уложение!.. Тут взвоешь, а им всё мало… А в тех училищах, которые и есть, чему учат, чем учителя похваляются? «Откроются им всякие книги печатные и письменные, и всякие дела и крепости, откуда вразумляются и вчиневаются и чем устрояются…» И всякий, кто знает грамматикию, уже философом слывёт, учёным!..
– Просвещение книжное… – повторил тихо Ордын. – А Котошихин? А опять Морозова возьми: он ли не начитан, он ли не умен? А в голове только одно: где бы чего урвать? Вот тебе и просвещение!.. Сердцевина у нас гнилая, сдается мне. Веры настоящей нету. Величаемся: мы-де, одни хранители истинной веры Христовой, а вокруг-де, все басурманы. А погляди ближе опять: и вера какая-то гнилая!.. Вон когда Никона всем миром валили, тот же Стрешнев свою собаку Никоном назвал и благословлять её по-патриаршьи выучил! А Никон его за это проклял. А сам Никон, патриарх всея Руси, когда при нём нашего псковского святого Ефросина хвалить стали, саданул: «Какой он святой? Вор, бляди сын, Ефросин…» И пил хуже всякого ярыжки, и царь к покоям его во время запою стрелецкий караул ставил… И стоит над Москвой звон всех сорока сороков, а на улицах – матерщина, женщине носу показать нельзя. Говорят: из терема выпустить её надо. Да как же я её выпушу на такую страмоту?…
Матвеев, точно уже испугавшись чего-то, молчал. Из-за Николы на Столпах в сиреневых сумерках месяц подымался. Загорались редкие и бледные звёзды. Соловьи засвистели и зарокотали по садам.
– Думаю я, что от того в нас всех шатание такое, что нет в нашей вере ни ясности, ни твёрдости… – сказал тихо Ордын, потупившись. – Вон какую бучу на весь православный мир Никон поднял, а разобрать, весь этот шум пошёл из-за пустяков. Мнится мне, что не букву исправить надо было, а то, что под буквой. Возьми хошь Нила преподобного, которого Иосиф Волоколамский заклевал. Ведь он нестяжанию учил, кротости, жизни братолюбной, а пастыри наши привыкли стоять высоко, ездить широко. Ведь о том же Никоне попы говаривали, что лутче в Сибирь в ссылку идти, чем попасть к нему под начало: ведь он батогами их бил, на цепь сажал, в ссылку гнал невесть и сам куцы, а сам тем временем, запершись, всё деньги свои да сибирские меха считал, а приняв от прежнего патриарха 10 000 крестьян, он после себя оставил 25 000 семей крестьянских, которые к Патриаршему двору приписаны были!.. Вот тебе и Нил преподобный!.. Как на духу тебе покаюсь, Артамон Сергеич… – прибавил он, и прекрасные глаза его засияли в сиреневых сумерках горячим огнём. – Боюсь я дум этих! Чувствую иногда, что прямо земля из-под ног уходит… Всю жизнь я царю да родине прямил, не жалея себя, а вот теперь думаю, что вся эта сутолока наша, все споры, все кровопролития – пустота одна… И чует душа моя одно: не мы делаем, а нами что-то Господь сделать хочет. Вот ты давеча у князя Юрия Алексеевича сказал, что разбегается-де Русь во все концы, куда глаза глядят… Правда, да только не вся…
– Как не вся?
– А так. Вот сидели мы, Русь, в Киеве, и одолевала нас Степь, и подались мы в леса, куда поглуше. И сюда стали доставать, – хошь не хошь, а воюй… Не один век смертным боем бились, уничтожили, наконец, Орду, Казань и Астрахань за собой закрепили. Может, и не следовало бы залезать так далеко, и не по силам бы нам это, да вот нас не спрашивали об этом. И опять с украин все нас щиплют и щиплют: и на Тереке, и из Крыма, и из-за Камы, – о ляхах и шведах я уж не говорю, – и нет нам никакого покою. И вот отбиваемся мы от вражьей силы, и всё лезем, отбиваясь, вперёд да вперёд, пухнем, как тесто в квашне, и никак остановиться не можем: иди, бейся, не стой!.. Правда, что люди от Москвы бегут, но только и Москву кто-то погоняет. Судьба-злодейка? Господь? Вот и разбери тут…
– Да к чему ты это, Афанасий Лаврентьевич?
– А к тому, что кабыть не нашей волей всё это творится… – проникновенно и печально проговорил Ордын. – Верно, что тяжко мужику стало, как к земле его Уложением пришили. А и не пришить было нельзя, потому что надо же крепить за собой, для него же надо, те дикие места, куда нас гонит судьба… И как подумаешь обо всём этом покрепче, так одно только словно и остаётся: в скиту запереться. А там да будет воля Твоя.
В серебристом сиянии месяца, на щит червлёный похожего, тихо подошла к ним сзади какая-то стройная женская фигура, в пояс поклонилась и проговорила:
– Мир вашему гулянью…
Ордын встал и низко поклонился ей. То была Наташа, дочь его сослуживца, Кирилла Нарышкина, приёмыш Матвеева. В других домах все женщины и девушки были накрепко спрятаны от чужих глаз по теремам, – у Артамона Сергеевича, женатого на шотландке из Немецкой слободы, они открыто выходили к гостям и даже вместе с ними трапезовали.
– А ты всё хорошеешь, Наталья Кирилловна!.. – ласково улыбнулся Ордын.
И он тепло посмотрел на стройную, высокую красавицу, на её прелестное, такое белое в сиянии месяца лицо с большими тёмными глазами и с густой косой, перекинутой наперёд через плечо. И вдруг стало ему понятно, о чём поют соловьи, о чём шепчут серебристые звёзды; о чём сладко плачет и тоскует в такие ночи сердце человеческое… И пронеслось душой облачко: и это уже ушло…
– Ужинать велели вас звать, время уж… – ласково сказала Наташа. – Милости просим, боярин, нашего хлеба-соли откушать…
И когда потом возвращался к себе Афанасий Лаврентьевич сонными улицами, заворожённой луною Москвы, в душе его было тяжёлое чувство неудовлетворённости. Он чувствовал, что он точно уходит от Матвеева. Его друг представлялся ему каким-то точно прудом, в который не нырнёшь: в нём нет глубины. И великая печаль всё растущего в мире одиночества охватила душу одинокого всадника…
VI. Вольница
Светлая бездна лунного неба вверху, светлые, с резкими чёрными тенями холмы внизу и серебристая, широкая, движущаяся гладь Волги: ширина, дух захватывающая, воля дикая, никаких границ нигде и ни в чём… По холмам полыхают золотые костры, а вокруг костров гомонят и движутся угольно-чёрные тени, – оборванный, волосатый, сквернословящий, бряцающий оружием и пьяный воровской табор. Казаки варят себе ужин… И льётся их песня, широкая и немного печальная, как эта Волга бескрайная в пустынных берегах, как эта глухая, недавно зазеленевшая степь…
Казаков было в станице побольше тысячи. Тут были и сивые старики, и совсем почти мальчики, были великороссы, были черкассцы-малороссы, были новокрещёные татары, и черемиса, и «чюваша», были бойцы со славного Запорожья, было несколько ляхов-хлопов и даже один уже седой чех, потомок таборитов, которые бурями религиозных войн были выкинуты сперва в Запорожье, а потом и на Дон, были ремесленники, были монахи, были просто не помнящие ни роду, ни племени, которые по кабакам завалялись, испропились, но больше всего было крестьян, потерявших при тишайшем Алексее Михайловиче последнюю волю и всякое право…
– А как тебя занесло к нам, такую даль? – мешая в чёрном котле и отворачивая закоптелое лицо от дыма, спросил кашевар, обращаясь к одному из сидевших вокруг огня казаков, парню лет за тридцать с шапкой густых каштановых волос, открытым загорелым лицом и вытекшим глазом.
– А ты попробовал бы панов наших, так, может, и дальше ещё подался бы… – лениво, с сильным хохлацким акцентом отвечал Серёжка Кривой. – Они едят на золоте да на серебре, при столе музыка всегда в трубы играет, все в шелку да в золоте ходят и шляхты этой, дармоедов, в ином доме до тысячи человек содержут… А с хлопов драли всё, что было только можно: от восхода солнечного до ночи гни на них спину без передышки на панщине, а придёт большой праздник какой, Пасха там, или Рождество, або Троица, вези пану осып: зерно, кур, гусей… Со скотинки всякой отдай ему десятину, с каждого вола плати рогатое, с каждого улья – очковое, захотел рыбки половить, плати ставщину, нужно скотину на степь выгнать, плати спаское, желудей свиньям в лесу набрать хочешь, плати желудное, а на мельницу поехал, отдавай сухомелыцину… Напридумывали!..
– Ано!.. – дымя трубкой, усмехнулся чех.
– Да… Это у вас ловко паны придумали!.. – засмеялся чернявый казак с вырванными ноздрями: бив его батоги нещадно, ему вырвали их за нюханье табака, запретного бесовского зелья. – Пожалуй, почище наших будут…
Другие электронные книги автора Иван Федорович Наживин
Другие аудиокниги автора Иван Федорович Наживин
Встреча




 0
0