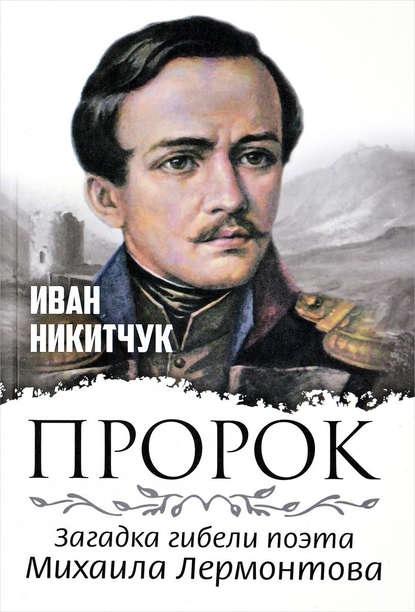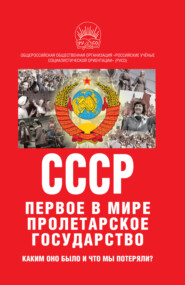По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пророк, или Загадка гибели поэта Михаила Лермонтова
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Зал театра уже порядочно был заполнен гостями, ярко освещен – блистали мундиры, наряды и бриллианты, гремела музыка.
– Какой блеск вокруг! – воскликнула Эмилия Карловна.
– Да, блеск беспощадный, – с насмешкой в голосе отозвался Михаил Юрьевич.
– Вы, Михаил Юрьевич, как всякий поэт, любите необычайные сравнения. Что же беспощадного в этом блеске? – удивленно спросил Соллогуб.
– Этот блеск удивителен тем, что в одно мгновение может разрушить наши прекрасные надежды на счастье, наши прекрасные иллюзии… Недавно, граф, ночью я ехал в Царское на лошадях. Подходила гроза. Передо мной в темноте стояли густые высокие нивы, подымались кущи столетних деревьев, и мне казалось, что я еду по богатой, устроенной к счастью стране. Но сверкнула очень яркая зарница, и я увидел каждый колос хлеба на пыльных полях, жалкие хижины. Колосья были редкие и пустые, хижины – покосившиеся. Так исчез обман богатой и счастливой страны.
– Да… Это весьма интересно…, – растерянно промолвил Соллогуб.
– Наоборот, это весьма огорчительно.
– Должен ли я понимать ваш рассказ как иносказание?
– Располагайте свободно своим мнением, граф.
– Тише, господа, дочь императора вошла в зал, – шепнула Эмилия Карловна.
В зале прошел шепот, дамы и кавалеры поклонами приветствовали великую княгиню. Мария Николаевна, оглядываясь, подозвала Соллогуба.
– Кто этот офицер, с которым вы тотчас разговаривали, граф?
– Это Лермонтов, ваше высочество.
– Вот он каков! Какие у него мощные плечи и какой неприятный взгляд. Он некрасив, но притягателен.
Лермонтов был небольшого роста, широк в плечах и вообще нескладен; казался сильного сложения, неспособного к чувствительности и раздражению; походка его была несколько осторожна для кавалериста, жесты его были отрывисты, хотя часто они выказывали беззаботное равнодушие. Но сквозь эту холодную кору прорывалась часто настоящая природа человека; видно было, что он следовал не всеобщей моде, а сжимал свои чувства и мысли из недоверчивости или из гордости. Звуки его голоса были то густы, то резки, смотря по влиянию текущей минуты: когда он хотел говорить приятно, то начинал запинаться. В свете утверждали, что язык его зол и опасен… Лицо его смуглое, неправильное, но полное выразительности, на нем можно было прочесть следы прошедшего и чудные обещания будущности… В его улыбке, в его странно блестящих глазах было что-то таинственное. Они не смеялись, когда он смеялся! Это признак – или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его – непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен… При этом он имел одну из тех оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщинам…
– Тончайший поэт, ваше высочество, – продолжил Соллогуб.
– Да. Я читала его стихи и прозу… Как жаль, что нынче поэты чураются Двора. А что иное, как не Двор, могло бы придать полный блеск их поэзии. Но времена менестрелей прошли.
– Как знать, ваше высочество…
– Я бы хотела видеть Лермонтова у себя.
– Лишний алмаз в ожерелье вашего высочества только усилит его сияние.
– Как вы любите, граф, выспренно выражаться, – отходя с улыбкой, сказала Мария Николаевна.
Проходя мимо Мусиной-Пушкиной, она на мгновение остановилась и поздоровалась с ней.
– Я слышала, графиня, что вы ухаживаете за бедными девушками в тифозном госпитале?
– Да, ваше высочество, – ответила Мусина-Пушкина, сделав реверанс.
– Это похвально. Но берегите себя. Ваша прелестная жизнь нужна не только вашему супругу и родным, она еще дает пищу для развития поэзии.
– Какая дерзость! – произнесла тихо Мусина-Пушкина после того, как от них удалилась Мария Николаевна.
Лермонтов с Мусиной-Пушкиной отошли за колонны зала, уединившись. Графиня молча протянула Лермонтову руку.
– Простите меня, – сказал Михаил Юрьевич, – Я часто не был в силах скрывать свое отношение к вам и дал повод для этой грубости.
– Пустое, Лермонтов… – сказала она дрожащим голосом.
– Чем больше я встречаюсь с вами, тем тяжелее у меня на сердце. Вашу молодость и чистоту уже пятнают клеветой. Свет ненавидит любовь.
– Нам, кажется, придется не видеться друг с другом, – грустно прозвучал ее голос.
– Как вам будет угодно, – с неприкрытой печалью в голосе ответил Лермонтов.
– Ты сердишься, Мишель? Я думаю, нам давно пора перейти на «ты».
В голосе Мусиной-Пушкиной послышалась тревога.
– О нет. Но, очевидно, любовь слишком тяжелая ноша для таких слабых плеч, как ваши, графиня. Ну что ж! Должно быть, мир устроен так, что истинная любовь существует только в воображении поэтов… Ежели бы вы знали, какою сердечностью были полны мои мысли о вас!.. Я благодарен тебе, и, конечно, с удовольствием согласен перейти на «ты»… Как это мило, Эмилия!..
Лермонтов неожиданно замолк. К ним подошел Столыпин. Он выглядел бледным и взволнованным. Он быстро поклонился с извинением Мусиной-Пушкиной и сказал, почти задыхаясь:
– Мишель, я тебя везде ищу…
– А что? Что случилось, Монго? – с тревогой в голосе спросил Лермонтов.
– Дурные вести с Кавказа, Мишель.
– Говори!
– Получено известие… Саша Одоевский…
– Ну?!
– Саша Одоевский умер от горячки… Где-то в дырявой палатке, в походе…
– Убили Сашу! Откуда ты узнал? – прокричал Лермонтов, тряся Столыпина за плечи.
– Он умер, Мишель.
– Нет, его убили! Оставь меня, Монго! Я хочу побыть один… И ты, Эмилия, извини меня…
Я знал его: мы странствовали с ним
В горах востока, и тоску изгнанья
Делили дружно; но к полям родным
Вернулся я, и время испытанья
Промчалося законной чередой;
А он не дождался минуты сладкой:
Под бедною походною палаткой
Болезнь его сразила, и с собой
– Какой блеск вокруг! – воскликнула Эмилия Карловна.
– Да, блеск беспощадный, – с насмешкой в голосе отозвался Михаил Юрьевич.
– Вы, Михаил Юрьевич, как всякий поэт, любите необычайные сравнения. Что же беспощадного в этом блеске? – удивленно спросил Соллогуб.
– Этот блеск удивителен тем, что в одно мгновение может разрушить наши прекрасные надежды на счастье, наши прекрасные иллюзии… Недавно, граф, ночью я ехал в Царское на лошадях. Подходила гроза. Передо мной в темноте стояли густые высокие нивы, подымались кущи столетних деревьев, и мне казалось, что я еду по богатой, устроенной к счастью стране. Но сверкнула очень яркая зарница, и я увидел каждый колос хлеба на пыльных полях, жалкие хижины. Колосья были редкие и пустые, хижины – покосившиеся. Так исчез обман богатой и счастливой страны.
– Да… Это весьма интересно…, – растерянно промолвил Соллогуб.
– Наоборот, это весьма огорчительно.
– Должен ли я понимать ваш рассказ как иносказание?
– Располагайте свободно своим мнением, граф.
– Тише, господа, дочь императора вошла в зал, – шепнула Эмилия Карловна.
В зале прошел шепот, дамы и кавалеры поклонами приветствовали великую княгиню. Мария Николаевна, оглядываясь, подозвала Соллогуба.
– Кто этот офицер, с которым вы тотчас разговаривали, граф?
– Это Лермонтов, ваше высочество.
– Вот он каков! Какие у него мощные плечи и какой неприятный взгляд. Он некрасив, но притягателен.
Лермонтов был небольшого роста, широк в плечах и вообще нескладен; казался сильного сложения, неспособного к чувствительности и раздражению; походка его была несколько осторожна для кавалериста, жесты его были отрывисты, хотя часто они выказывали беззаботное равнодушие. Но сквозь эту холодную кору прорывалась часто настоящая природа человека; видно было, что он следовал не всеобщей моде, а сжимал свои чувства и мысли из недоверчивости или из гордости. Звуки его голоса были то густы, то резки, смотря по влиянию текущей минуты: когда он хотел говорить приятно, то начинал запинаться. В свете утверждали, что язык его зол и опасен… Лицо его смуглое, неправильное, но полное выразительности, на нем можно было прочесть следы прошедшего и чудные обещания будущности… В его улыбке, в его странно блестящих глазах было что-то таинственное. Они не смеялись, когда он смеялся! Это признак – или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его – непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен… При этом он имел одну из тех оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщинам…
– Тончайший поэт, ваше высочество, – продолжил Соллогуб.
– Да. Я читала его стихи и прозу… Как жаль, что нынче поэты чураются Двора. А что иное, как не Двор, могло бы придать полный блеск их поэзии. Но времена менестрелей прошли.
– Как знать, ваше высочество…
– Я бы хотела видеть Лермонтова у себя.
– Лишний алмаз в ожерелье вашего высочества только усилит его сияние.
– Как вы любите, граф, выспренно выражаться, – отходя с улыбкой, сказала Мария Николаевна.
Проходя мимо Мусиной-Пушкиной, она на мгновение остановилась и поздоровалась с ней.
– Я слышала, графиня, что вы ухаживаете за бедными девушками в тифозном госпитале?
– Да, ваше высочество, – ответила Мусина-Пушкина, сделав реверанс.
– Это похвально. Но берегите себя. Ваша прелестная жизнь нужна не только вашему супругу и родным, она еще дает пищу для развития поэзии.
– Какая дерзость! – произнесла тихо Мусина-Пушкина после того, как от них удалилась Мария Николаевна.
Лермонтов с Мусиной-Пушкиной отошли за колонны зала, уединившись. Графиня молча протянула Лермонтову руку.
– Простите меня, – сказал Михаил Юрьевич, – Я часто не был в силах скрывать свое отношение к вам и дал повод для этой грубости.
– Пустое, Лермонтов… – сказала она дрожащим голосом.
– Чем больше я встречаюсь с вами, тем тяжелее у меня на сердце. Вашу молодость и чистоту уже пятнают клеветой. Свет ненавидит любовь.
– Нам, кажется, придется не видеться друг с другом, – грустно прозвучал ее голос.
– Как вам будет угодно, – с неприкрытой печалью в голосе ответил Лермонтов.
– Ты сердишься, Мишель? Я думаю, нам давно пора перейти на «ты».
В голосе Мусиной-Пушкиной послышалась тревога.
– О нет. Но, очевидно, любовь слишком тяжелая ноша для таких слабых плеч, как ваши, графиня. Ну что ж! Должно быть, мир устроен так, что истинная любовь существует только в воображении поэтов… Ежели бы вы знали, какою сердечностью были полны мои мысли о вас!.. Я благодарен тебе, и, конечно, с удовольствием согласен перейти на «ты»… Как это мило, Эмилия!..
Лермонтов неожиданно замолк. К ним подошел Столыпин. Он выглядел бледным и взволнованным. Он быстро поклонился с извинением Мусиной-Пушкиной и сказал, почти задыхаясь:
– Мишель, я тебя везде ищу…
– А что? Что случилось, Монго? – с тревогой в голосе спросил Лермонтов.
– Дурные вести с Кавказа, Мишель.
– Говори!
– Получено известие… Саша Одоевский…
– Ну?!
– Саша Одоевский умер от горячки… Где-то в дырявой палатке, в походе…
– Убили Сашу! Откуда ты узнал? – прокричал Лермонтов, тряся Столыпина за плечи.
– Он умер, Мишель.
– Нет, его убили! Оставь меня, Монго! Я хочу побыть один… И ты, Эмилия, извини меня…
Я знал его: мы странствовали с ним
В горах востока, и тоску изгнанья
Делили дружно; но к полям родным
Вернулся я, и время испытанья
Промчалося законной чередой;
А он не дождался минуты сладкой:
Под бедною походною палаткой
Болезнь его сразила, и с собой