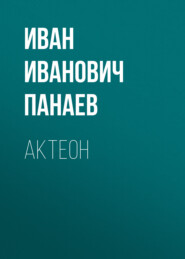По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Опыт о хлыщах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он скорчил гримасу и вздохнул, потом взял меня за руку и сказал:
– Пойдем, душа моя, туда за ними, посмотрим на этих бонтонов-то, как они там ломаются перед барынями и отпускают им закорючки на розовом масле. Мы, братец, люди несветские; надо поучиться у них толочь лоделаван в ступе. Мы напрямик; коли заговорило здесь (Астрабатов указал на сердце), так, не думая долго, бух на колени… и без всякой эдакой риторики: «У меня-де сердце на ладони, сударыня; я человек со вздохом», и мы по опыту знаем, душа моя, что это действует на барынь вернее. Как ты думаешь?
Он прищелкнул языком, зажмурил правый глаз, схватил меня за руку и потащил в гостиную.
Там Щелкалов, лежа в волтеровском кресле, с розаном в бутоньерке и с пахитоской в зубах, рассказывал что-то дамам, которые окружили его кресло.
Мы застали его на следующих словах:
– Это была минута ужасная, – говорил он, – лошадь закусила удила и мчала графиню прямо к реке; берег этой реки крутой и почти отвесный; она была уже не более, как шагах в пятидесяти от берега, но в это мгновение я пускаю свою лошадь за нею во весь карьер, не сознавая ничего, нисколько не думая об опасности…
Передняя нога ее лошади уж висела над бездной в ту минуту, как я поравнялся с нею. Я схватил графиню одною рукою за талию, перебросил ее к себе на седло и в то же мгновение другой рукою с такой силой осадил свою лошадь, что она совсем грянулась на задние ноги. Я соскочил с нее и положил графиню на землю. Она была, разумеется, без памяти… Ну, в это время к нам подоспели остальные: мою лошадь схватили, а лошадь графини рухнулась в реку и тут же пала, разбившись грудью о камни…
Щелкалов, произнеся последнее слово, вставил в глаз свое стеклышко и обозрел своих слушательниц. Лидия Ивановна, барыня, поводящая глазами и передергивающая плечами, по имени Аменаида Александровна, бойкая барышня с двойным золотым лорнетом, Наденька и другие барыни и барышни – все в один голос невольно ахнули с последним словом Щелкалова: так поразил их его геройский подвиг; а Астрабатов, наклонясь к моему уху, шепнул:
– Да это он, братец ты мой, кажется, лупит чистоганом из не люба не слушай…
Ах ты, Малек-Адель эдакой! – воскликнул он громко, глядя на Щелкалова, и потом продолжал, обратясь к дамам: – то есть ух! какой тонкости, я вам доложу, человек по амурному отделению, – беда! Слава богу, десять лет его знаю, не десять дней… Послушай, барон (он снова поглядел на Щелкалова), а помнишь ли третьягоднишнюю лебедянскую сказку? Забыл, что ли?
В голосе Астрабатова послышалось внутреннее раздражение.
– Тогда без Астрабатова не обходился никто… обед ли, ужин ли или что-нибудь эдакое – подавай сюда Астрабатова! Астрабатова обнимали, качали; Астрабатов, моншер, душу свою отдавал вам без залога и без процентов… Астрабатов, сделай то; Астрабатов, дай это (он указал на карман); Астрабатов, съезди туда;
Астрабатов, спой. Астрабатов все делал для вас – и ездил, и хлопотал, и пел…
Как заговорит, бывало, тут, в левом боку, сейчас гитару в руки, щипнул два-три аккорда со слезой, да как потом зальешься эдак задушевно, изнутри; так, я думаю, ты сам помнишь, – люди, у которых были нервы из вязиги, – и те, душа моя, рыдали, потому что хоть методы нет, да душа есть, а в душе – главное…
Астрабатов – это всем известно – в пять дней пять тысяч рублей серебром просадил. Да! вот каков Астрабатов-то!
Он вынул из кармана огромный сафьянный бумажник и хлопнул по нем рукою.
– Пять тысяч, моншер, вот из этого бумажника вынул, как одну копейку, в пять дней! – потом, вздохнув, прибавил: – В нем-таки перебывало порядочно деньжонок! И нынче, благодаря бога, водятся… А в Петербурге Астрабатова на улице или в гостях встречают: не узнают. Здесь Астрабатов не нужен, потому что здесь фаетоны да бонтоны, здесь вытанцовывают па-де-дё на столичных деликатностях в вершок ширины; а задушевности, моншер, вот отсюда-то идущей, из глубины, теплоты-то этой, – этого не нужно! Все Фребелиусы да Гамбсы, а о чувстве не спрашивай… А в сущности все это помпадурство, по-моему, самое пустое дело.
Астрабатов приостановился на минуту, посмотрел, несколько прищурясь, на дам, удивленных его импровизациею, вынул из кармана пестрый раздушенный фуляр, высморкнулся и сказал, улыбаясь:
– Pardon, mesdames! я человек со вздохом, люблю попросту, без всяких эдаких закорючек, сердечно высказать все, когда закипит внутри; а там, знаешь, каждый получай по адресу…
Щелкалов в первую минуту, когда Астрабатов заговорил, обернулся на этот голос, взглянул на него и потом в продолжение всей его речи измерял его с ног до головы в свое стеклышко с презрительной улыбкой. Когда же Астрабатов кончил, барон захохотал, встал с кресла, протянул ему руку, как бы удостоивая его особой чести, и сказал, не глядя, впрочем, на него:
– Здравствуй… Ну, что, все такой же, как всегда?.. особенный, свой язык, как ни у кого? оригинально… очень! – И потом, обратясь к Лидии Ивановне, прибавил: – большой чудак! Не правда ли? А я и не знал, что вы с ним знакомы…
Астрабатов значительно посмотрел на него.
– Полно, душенька, эрфиксы-то выпускать, – произнес он, – с старыми-то приятелями эдак не встречаются. Вот лучше-ка по душе, запросто, без закорючек, обнимемся и поцелуемся.
Он бесцеремонно обнял Щелкалова и протянул к нему свои губы. Щелкалов поморщился, не совсем охотно позволил поцеловать себя и потом, отойдя от него, сказал мне:
– Вот, батюшка, тип-то! Не правда ли? Каков молодчик?.. Но как же можно пускать этакого господина в дом?..
Вскоре после этого экипажи были поданы и все начали собираться в путь. Перед самым отъездом Астрабатов схватил за руку Ивана Алексеича, который бежал к коляске с каким-то узлом.
– Постой, душа моя, – сказал он ему, – ты ведь меня знаешь, и мы, кажется, понимаем друг друга. Ты поэт; а я, братец, хоть и не пишу стихов, но здесь у меня в груди кипит поэзия: и слеза, и вздох, и песня – всё тут! Так ли? скажи…
– Еще бы! – возразил Иван Алексеич, крепко пожав руку Астрабатова с свойственным ему сладким выражением, – я знаю, что ты поэт в душе; но пора, братец, ехать; мы и без того уж опоздали… Надо вот еще уложить этот узел…
– Нет, погоди, брат, погоди! – перебил его Астрабатов, – тебе известно, что я действую начистоту, напрямки, этикеты только уважаю на бутылках, а церемоний терпеть не могу; так вели-ка ты, душенька, на дорогу-то подать мне бальзамчику да кусочек черного хлеба с солью. Как набальзамируешь эдак слегка желудок перед обедом, так и аппетит лучше и на душе покойнее, да и от сырости предохранишь себя. Нельзя без этого. Ведь в воздухе нынче эпидемии так и хлещут!
Астрабатов выпил две большие рюмки водки, крякнул, закусил черным хлебом и произнес:
– Ну, вот теперь хоть на край света!
В это время происходила страшная суматоха. Дамы в шляпах и бурнусах толпились на крыльце и на дорожке палисадника, которая вела к калитке; мужчины – одни кричали своих кучеров, другие отыскивали свои пальто и шляпы; Макар в ливрее травяного цвета с галунами о чем-то очень хлопотал и суетился с необыкновенно серьезным выражением в лице; горничные совались без толку из угла в угол…
Коляска Щелкалова, запряженная четвернею в ряд, которою управлял кучер страшной толщины с огромною крашеною бородою, подъехала первая к калитке. Щелкалов предложил садиться Лидии Ивановне и Наденьке и сел напротив них сам с Веретенниковым. Его ливрейский лакей, в красных плюшевых штанах, ловко захлопнул дверцы коляски, оттолкнул Макара, который подсунулся было ему под руку, вскочил на козлы, гордо сел, подбоченясь левой рукой, и закричал: «Пошел!» Когда коляска двинулась, бойкая барышня с лорнетом шепнула что-то влюбленному в Наденьку молодому человеку, который изменился в лице и хоть улыбнулся, но очень печально.
Затем все начали рассаживаться в свои экипажи.
Мне пришлось ехать с бойкой барышней и с влюбленным молодым человеком. Дорогою я заметил, что между ними происходило что-то особенное. Она как-то необыкновенно выводила глазами, глядя на него, и кокетничала немилосердно, играя своим двойным лорнетом.
Когда мы проехали уже верст пять, сзади нас послышался звон бубенчиков и страшный крик: «Правее! правее! Эй, вы, соколики, голубчики! вытягивай дружно…
Правее!» И вслед за тем пронесся мимо нас, чуть не задев колесом о наше колесо, небольшой охотничий тарантас, запряженный тройкой с бубенчиками и с разными балаболками на сбруе. Этой тройкой правил, стоя, молодой ямщик в плисовой поддевке, в плоской шляпе почти без полей набекрень, украшенной венком разноцветных георгин. В этом тарантасе сидели Аменаида Александровна с Астрабатовым.
Астрабатов, поравнявшись с нами, вскочил на ноги, снял свою бархатную фуражку и, помахивая ею в воздухе, закричал, обращаясь ко мне:
– Что, душа моя, какова троечка-то? У меня, братец, русская душа. Вот она наша поэзия-то!..
Мы приехали в «Дубовую Рощу» в начале третьего часа. Первое лицо, попавшееся нам, был Астрабатов, который у подъезда флигеля, где были приготовлены для нас комнаты, расхаживал с кнутом в руке, всех встречая и хвастая своей троечкой и своей русской душой.
Щелкалов, по знакомству с хозяином и управляющим «Дубовою Рощею», устроил все с величайшим эффектом и комфортом. Нам отдан был в распоряжение целый флигель с пятью комнатами. В первой большой комнате, украшенной дубовыми гирляндами, был накрыт длинный стол, уставленный хрусталем, фруктами и цветами; направо две небольшие комнаты, также все в цветах, назначались для дамских уборных; комната налево для мужчин; а в стеклянной галерее за этой комнатой помещался буфет.
Лидия Ивановна, Наденька, а за ними все остальные дамы поочередно приходили в восторг от вкуса барона и осыпали его благодарностями и похвалами. Щелкалов принимал эти изъявления довольно равнодушно, гордо прохаживался с своим стеклышком, кричал на людей и дружески трепал по плечу толстого управляющего с печатками на животе, который явился к нему узнать, доволен ли он его распоряжениями. Я заметил в то же время, что этот управляющий посматривал на всех нас остальных, на дам и на мужчин, с какой-то подозрительной гримасой недоумения, которую можно было растолковать так: «Да откуда же это таких господ и госпож навез с собою барон? Я таких сроду не видывал».
Иван Алексеич подходил ко всем с своей сладкой улыбкой и с одним и тем же вопросом: «Каков барон-то? Я ведь говорил, что он все сумеет устроить как никто.
Оно хотя дороговато, да ведь зато, посмотрите, как все хорошо».
И затем одному он указывал, облизывая губы, на огромную грушу, другому на вазу со сливами, третьего приводил в буфет, где был выставлен строй бутылок, и так далее.
У Пруденского разгорались на все глаза, и, казалось, он совершенно начинал забывать потраченные им двадцать рублей: поправляя очки, он разглядывал с глубокомысленным вниманием и ананас, и персик; читал на бутылках ерлыки; брал бутылку в руку, рассматривая ее со всех сторон, и улыбался про себя.
Поваренки, бегавшие по двору, также немало занимали его.
– Вишь, – заметил он с удовольствием, – плуты, бегают, и сколько их! Видно, работы-то много! Полагать должно по всему, что нам предстоит недурной обедец, а возлиятельная часть в наилучшем устройстве. Лафит и сотерн под золотыми и серебряными печатями! – И потом продолжал, пародируя Гомера:
Мы будем за пиршеством – Мирно беседу вести; посреди нас цветущая Геба (он указал на проходившую в эту минуту Наденьку) – Нектар кругом разольет… и кубки приемля златые, Чествовать будем друг друга, на луг сей зеленый взирая… (При этом он указал пальцем в окно и осклабился самою довольною улыбкою.) Астрабатов ударил его своей широкой ладонью по спине и сказал:
– Полно ораторствовать-то! ведь ты здесь не в школе, а вот выпьем-ка лучше бальзамчику. Слышишь? Я уже хватил дважды перед отъездом и один раз после приезда, да чувствую потребность еще: что-то щемит под ложечкой. Хватим-ка, дружище, по рюмочке.
– Пойдем, душа моя, туда за ними, посмотрим на этих бонтонов-то, как они там ломаются перед барынями и отпускают им закорючки на розовом масле. Мы, братец, люди несветские; надо поучиться у них толочь лоделаван в ступе. Мы напрямик; коли заговорило здесь (Астрабатов указал на сердце), так, не думая долго, бух на колени… и без всякой эдакой риторики: «У меня-де сердце на ладони, сударыня; я человек со вздохом», и мы по опыту знаем, душа моя, что это действует на барынь вернее. Как ты думаешь?
Он прищелкнул языком, зажмурил правый глаз, схватил меня за руку и потащил в гостиную.
Там Щелкалов, лежа в волтеровском кресле, с розаном в бутоньерке и с пахитоской в зубах, рассказывал что-то дамам, которые окружили его кресло.
Мы застали его на следующих словах:
– Это была минута ужасная, – говорил он, – лошадь закусила удила и мчала графиню прямо к реке; берег этой реки крутой и почти отвесный; она была уже не более, как шагах в пятидесяти от берега, но в это мгновение я пускаю свою лошадь за нею во весь карьер, не сознавая ничего, нисколько не думая об опасности…
Передняя нога ее лошади уж висела над бездной в ту минуту, как я поравнялся с нею. Я схватил графиню одною рукою за талию, перебросил ее к себе на седло и в то же мгновение другой рукою с такой силой осадил свою лошадь, что она совсем грянулась на задние ноги. Я соскочил с нее и положил графиню на землю. Она была, разумеется, без памяти… Ну, в это время к нам подоспели остальные: мою лошадь схватили, а лошадь графини рухнулась в реку и тут же пала, разбившись грудью о камни…
Щелкалов, произнеся последнее слово, вставил в глаз свое стеклышко и обозрел своих слушательниц. Лидия Ивановна, барыня, поводящая глазами и передергивающая плечами, по имени Аменаида Александровна, бойкая барышня с двойным золотым лорнетом, Наденька и другие барыни и барышни – все в один голос невольно ахнули с последним словом Щелкалова: так поразил их его геройский подвиг; а Астрабатов, наклонясь к моему уху, шепнул:
– Да это он, братец ты мой, кажется, лупит чистоганом из не люба не слушай…
Ах ты, Малек-Адель эдакой! – воскликнул он громко, глядя на Щелкалова, и потом продолжал, обратясь к дамам: – то есть ух! какой тонкости, я вам доложу, человек по амурному отделению, – беда! Слава богу, десять лет его знаю, не десять дней… Послушай, барон (он снова поглядел на Щелкалова), а помнишь ли третьягоднишнюю лебедянскую сказку? Забыл, что ли?
В голосе Астрабатова послышалось внутреннее раздражение.
– Тогда без Астрабатова не обходился никто… обед ли, ужин ли или что-нибудь эдакое – подавай сюда Астрабатова! Астрабатова обнимали, качали; Астрабатов, моншер, душу свою отдавал вам без залога и без процентов… Астрабатов, сделай то; Астрабатов, дай это (он указал на карман); Астрабатов, съезди туда;
Астрабатов, спой. Астрабатов все делал для вас – и ездил, и хлопотал, и пел…
Как заговорит, бывало, тут, в левом боку, сейчас гитару в руки, щипнул два-три аккорда со слезой, да как потом зальешься эдак задушевно, изнутри; так, я думаю, ты сам помнишь, – люди, у которых были нервы из вязиги, – и те, душа моя, рыдали, потому что хоть методы нет, да душа есть, а в душе – главное…
Астрабатов – это всем известно – в пять дней пять тысяч рублей серебром просадил. Да! вот каков Астрабатов-то!
Он вынул из кармана огромный сафьянный бумажник и хлопнул по нем рукою.
– Пять тысяч, моншер, вот из этого бумажника вынул, как одну копейку, в пять дней! – потом, вздохнув, прибавил: – В нем-таки перебывало порядочно деньжонок! И нынче, благодаря бога, водятся… А в Петербурге Астрабатова на улице или в гостях встречают: не узнают. Здесь Астрабатов не нужен, потому что здесь фаетоны да бонтоны, здесь вытанцовывают па-де-дё на столичных деликатностях в вершок ширины; а задушевности, моншер, вот отсюда-то идущей, из глубины, теплоты-то этой, – этого не нужно! Все Фребелиусы да Гамбсы, а о чувстве не спрашивай… А в сущности все это помпадурство, по-моему, самое пустое дело.
Астрабатов приостановился на минуту, посмотрел, несколько прищурясь, на дам, удивленных его импровизациею, вынул из кармана пестрый раздушенный фуляр, высморкнулся и сказал, улыбаясь:
– Pardon, mesdames! я человек со вздохом, люблю попросту, без всяких эдаких закорючек, сердечно высказать все, когда закипит внутри; а там, знаешь, каждый получай по адресу…
Щелкалов в первую минуту, когда Астрабатов заговорил, обернулся на этот голос, взглянул на него и потом в продолжение всей его речи измерял его с ног до головы в свое стеклышко с презрительной улыбкой. Когда же Астрабатов кончил, барон захохотал, встал с кресла, протянул ему руку, как бы удостоивая его особой чести, и сказал, не глядя, впрочем, на него:
– Здравствуй… Ну, что, все такой же, как всегда?.. особенный, свой язык, как ни у кого? оригинально… очень! – И потом, обратясь к Лидии Ивановне, прибавил: – большой чудак! Не правда ли? А я и не знал, что вы с ним знакомы…
Астрабатов значительно посмотрел на него.
– Полно, душенька, эрфиксы-то выпускать, – произнес он, – с старыми-то приятелями эдак не встречаются. Вот лучше-ка по душе, запросто, без закорючек, обнимемся и поцелуемся.
Он бесцеремонно обнял Щелкалова и протянул к нему свои губы. Щелкалов поморщился, не совсем охотно позволил поцеловать себя и потом, отойдя от него, сказал мне:
– Вот, батюшка, тип-то! Не правда ли? Каков молодчик?.. Но как же можно пускать этакого господина в дом?..
Вскоре после этого экипажи были поданы и все начали собираться в путь. Перед самым отъездом Астрабатов схватил за руку Ивана Алексеича, который бежал к коляске с каким-то узлом.
– Постой, душа моя, – сказал он ему, – ты ведь меня знаешь, и мы, кажется, понимаем друг друга. Ты поэт; а я, братец, хоть и не пишу стихов, но здесь у меня в груди кипит поэзия: и слеза, и вздох, и песня – всё тут! Так ли? скажи…
– Еще бы! – возразил Иван Алексеич, крепко пожав руку Астрабатова с свойственным ему сладким выражением, – я знаю, что ты поэт в душе; но пора, братец, ехать; мы и без того уж опоздали… Надо вот еще уложить этот узел…
– Нет, погоди, брат, погоди! – перебил его Астрабатов, – тебе известно, что я действую начистоту, напрямки, этикеты только уважаю на бутылках, а церемоний терпеть не могу; так вели-ка ты, душенька, на дорогу-то подать мне бальзамчику да кусочек черного хлеба с солью. Как набальзамируешь эдак слегка желудок перед обедом, так и аппетит лучше и на душе покойнее, да и от сырости предохранишь себя. Нельзя без этого. Ведь в воздухе нынче эпидемии так и хлещут!
Астрабатов выпил две большие рюмки водки, крякнул, закусил черным хлебом и произнес:
– Ну, вот теперь хоть на край света!
В это время происходила страшная суматоха. Дамы в шляпах и бурнусах толпились на крыльце и на дорожке палисадника, которая вела к калитке; мужчины – одни кричали своих кучеров, другие отыскивали свои пальто и шляпы; Макар в ливрее травяного цвета с галунами о чем-то очень хлопотал и суетился с необыкновенно серьезным выражением в лице; горничные совались без толку из угла в угол…
Коляска Щелкалова, запряженная четвернею в ряд, которою управлял кучер страшной толщины с огромною крашеною бородою, подъехала первая к калитке. Щелкалов предложил садиться Лидии Ивановне и Наденьке и сел напротив них сам с Веретенниковым. Его ливрейский лакей, в красных плюшевых штанах, ловко захлопнул дверцы коляски, оттолкнул Макара, который подсунулся было ему под руку, вскочил на козлы, гордо сел, подбоченясь левой рукой, и закричал: «Пошел!» Когда коляска двинулась, бойкая барышня с лорнетом шепнула что-то влюбленному в Наденьку молодому человеку, который изменился в лице и хоть улыбнулся, но очень печально.
Затем все начали рассаживаться в свои экипажи.
Мне пришлось ехать с бойкой барышней и с влюбленным молодым человеком. Дорогою я заметил, что между ними происходило что-то особенное. Она как-то необыкновенно выводила глазами, глядя на него, и кокетничала немилосердно, играя своим двойным лорнетом.
Когда мы проехали уже верст пять, сзади нас послышался звон бубенчиков и страшный крик: «Правее! правее! Эй, вы, соколики, голубчики! вытягивай дружно…
Правее!» И вслед за тем пронесся мимо нас, чуть не задев колесом о наше колесо, небольшой охотничий тарантас, запряженный тройкой с бубенчиками и с разными балаболками на сбруе. Этой тройкой правил, стоя, молодой ямщик в плисовой поддевке, в плоской шляпе почти без полей набекрень, украшенной венком разноцветных георгин. В этом тарантасе сидели Аменаида Александровна с Астрабатовым.
Астрабатов, поравнявшись с нами, вскочил на ноги, снял свою бархатную фуражку и, помахивая ею в воздухе, закричал, обращаясь ко мне:
– Что, душа моя, какова троечка-то? У меня, братец, русская душа. Вот она наша поэзия-то!..
Мы приехали в «Дубовую Рощу» в начале третьего часа. Первое лицо, попавшееся нам, был Астрабатов, который у подъезда флигеля, где были приготовлены для нас комнаты, расхаживал с кнутом в руке, всех встречая и хвастая своей троечкой и своей русской душой.
Щелкалов, по знакомству с хозяином и управляющим «Дубовою Рощею», устроил все с величайшим эффектом и комфортом. Нам отдан был в распоряжение целый флигель с пятью комнатами. В первой большой комнате, украшенной дубовыми гирляндами, был накрыт длинный стол, уставленный хрусталем, фруктами и цветами; направо две небольшие комнаты, также все в цветах, назначались для дамских уборных; комната налево для мужчин; а в стеклянной галерее за этой комнатой помещался буфет.
Лидия Ивановна, Наденька, а за ними все остальные дамы поочередно приходили в восторг от вкуса барона и осыпали его благодарностями и похвалами. Щелкалов принимал эти изъявления довольно равнодушно, гордо прохаживался с своим стеклышком, кричал на людей и дружески трепал по плечу толстого управляющего с печатками на животе, который явился к нему узнать, доволен ли он его распоряжениями. Я заметил в то же время, что этот управляющий посматривал на всех нас остальных, на дам и на мужчин, с какой-то подозрительной гримасой недоумения, которую можно было растолковать так: «Да откуда же это таких господ и госпож навез с собою барон? Я таких сроду не видывал».
Иван Алексеич подходил ко всем с своей сладкой улыбкой и с одним и тем же вопросом: «Каков барон-то? Я ведь говорил, что он все сумеет устроить как никто.
Оно хотя дороговато, да ведь зато, посмотрите, как все хорошо».
И затем одному он указывал, облизывая губы, на огромную грушу, другому на вазу со сливами, третьего приводил в буфет, где был выставлен строй бутылок, и так далее.
У Пруденского разгорались на все глаза, и, казалось, он совершенно начинал забывать потраченные им двадцать рублей: поправляя очки, он разглядывал с глубокомысленным вниманием и ананас, и персик; читал на бутылках ерлыки; брал бутылку в руку, рассматривая ее со всех сторон, и улыбался про себя.
Поваренки, бегавшие по двору, также немало занимали его.
– Вишь, – заметил он с удовольствием, – плуты, бегают, и сколько их! Видно, работы-то много! Полагать должно по всему, что нам предстоит недурной обедец, а возлиятельная часть в наилучшем устройстве. Лафит и сотерн под золотыми и серебряными печатями! – И потом продолжал, пародируя Гомера:
Мы будем за пиршеством – Мирно беседу вести; посреди нас цветущая Геба (он указал на проходившую в эту минуту Наденьку) – Нектар кругом разольет… и кубки приемля златые, Чествовать будем друг друга, на луг сей зеленый взирая… (При этом он указал пальцем в окно и осклабился самою довольною улыбкою.) Астрабатов ударил его своей широкой ладонью по спине и сказал:
– Полно ораторствовать-то! ведь ты здесь не в школе, а вот выпьем-ка лучше бальзамчику. Слышишь? Я уже хватил дважды перед отъездом и один раз после приезда, да чувствую потребность еще: что-то щемит под ложечкой. Хватим-ка, дружище, по рюмочке.