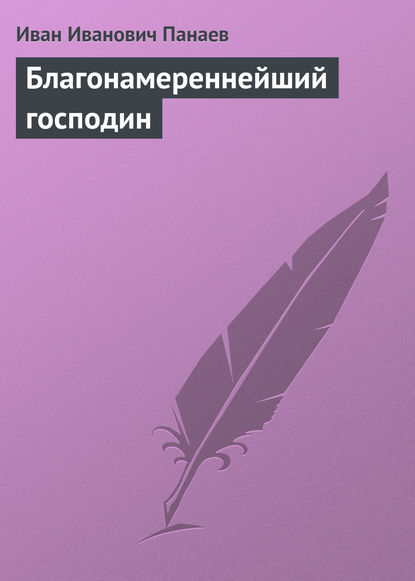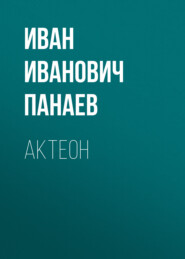По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Благонамереннейший господин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сколько раз я твердил тебе, – говорит он казачку, – чтобы ты не смотрел исподлобья, сколько раз? Ты не можешь мне прямо в глаза смотреть? Экой дрянной мальчишка!.. Я тебя научу смотреть мне прямо в глаза, погоди ты у меня! Все вы, канальи, из рук выбились!.. Пошел вон… Скажи генеральше, что я никуда не еду… И куда мне ехать?.. Зачем мне ехать?..
– Что это за народец нынче (говорит благонамереннейший господин своему приятелю), – сил недостает справляться с ними! Выписал я из деревни мальчика, привезли его, велел я его позвать в переднюю, чтобы посмотреть; выхожу, смотрю… Не понравился мне, смотрит эдакой букой, исподлобья, грязный, нечесаный… велел я его обмыть, выстричь, вычесать; одели его потом в казакинчик, – ну принял, кажется, человеческий образ, а все смотрит исподлобья… и веришь ли, до сих пор не могу приучить его смотреть мне прямо в глаза… какие меры ни принимал, ничего не помогает. А уж в том не бывать проку, кто смотрит исподлобья! Я это заметил… Задал я ему должность, кажется, не велика: топить печку в маленькой гостиной моей да прибирать ее. Там, ты знаешь, у меня на мебели… дочери вышили по канве… цветы и птицы… На одном стуле – птицы, а на другом – цветы. Вот я и говорю ему: «Смотри, когда будешь убирать, ставь стулья так, чтобы цветы были с цветами, а птицы с птицами… слышишь?..» Что ж бы вы думали?.. ничего не бывало; вечно, каналья, перемешает: цветы рядом с птицами, а птицы с цветами поставит… Извольте с эдаким народцем возиться: четырнадцатилетнему мальчишке в голову ничего вбить нельзя!.. И ведь не потому, чтобы он не понимал, – нет, просто потому, что не хочет, нет усердия, желания угодить барину, чувства нет… Я ведь помню, как прежде люди служили – только и думали о том, чтобы сделать барину что-нибудь угодное, смотрели ему в глаза, чтобы предупредить его желание… а нынче – это ни на что не похоже… Занемог у меня на прошедшей неделе камердинер, другие люди все своим делом заняты, я не хотел их отвлекать от дела, и призываю этого мальчишку… «Покуда, я говорю, Алексашка болен, ты будешь исправлять должность моего камердинера», – и смотрю, какое это на него впечатление произведет… Что же? стоит как пень, насупившись и уткнул глаза в пол, никакого выражения в лице, точно как будто я сказал ему: «Принеси стакан воды», – и не чувствует той милости, которую делает ему барин, допуская так близко к себе, а ведь три месяца назад он свиней пас в деревне!.. Нет, любезнейший друг, в плохие времена живем мы!..
И благонамереннейший господин в заключение, качая головою, испускает глубокий вздох.
Но его превосходительство несправедлив: виноваты не казачок, не прислуга его, которою он десять лет тому назад был очень доволен и которая служит ему с прежним усердием, – всему причиною внутреннее настроение духа его превосходительства; недовольство тем, что с ходом времени совершаются различные перемены и преобразования, которые ему не нравятся… Фуражки, юнкера на извозчиках, молодые генералы, литература, изобличающая взяточников, – все это мешает ему жить… Он, кажется, готов бы, если можно, с бешенством броситься на время, схватить его за шиворот, как подчиненного, и остановить. Ему бы хотелось, чтобы это неудержимое, бог знает для чего, так быстро бегущее время – всеоживляющее и всеобновляющее… замерло и окоченело в том положении, в каком оно было несколько лет назад тому, – в те дни, когда перед ним вытягивались в струнку писаря, курьеры и чиновники; когда все было шито и крыто; когда он чувствовал свою силу, ощущал, что он не просто генерал в отставке, на которого никто не обращает внимания, а особа, приводящая в трепет и замирание несколько десятков людей!
О! если его превосходительство и несправедлив к настоящему времени… не сердитесь на него за это, лучше пожалейте его!.. Не раздражайте его вашими литературными выходками! Хорошо еще, что он не читает ничего, но ведь ему могут прочесть добрые приятели… Оговорка, что такого лица нет в действительности, нисколько не помогает… подобным оговоркам никто верить не хочет. В вашей фантазии, в вымышленном вами лице… непременно тысячи лиц узнают своих приятелей… «Списан как живой! Все его слова, все выражения, просто вылитый!» – начнут кричать эти господа и развезут по городу приятную новость, что Александр Петрович или Григорий Иваныч выставлен в такой-то книжке такого-то журнала… И кончится тем, что даже сам Александр Петрович, нисколько не похожий на выставленное лицо, поверит, что его списали, хотя ни он сочинителя, ни его сочинитель отроду никогда не видывал!..
В этих случаях надобно быть чрезвычайно осторожным. Очень легко можно совсем свести с ума человека, уверив, что его описали… Не шутите с этим; говорят, бывали и такие примеры!..
Но как бы то ни было, дело сделано – и я продолжаю…
Недовольство настоящим моего благонамереннейшего лица возрастало с каждым днем и наконец достигло крайних пределов при одной из последних улучшительных мер, задевшей его за живое.
Когда только носился об этом слух, он не хотел верить и затыкал уши…
– Перестаньте, перестаньте!.. – говорил он, – вздор!.. этого быть не может!.. Я и слушать не хочу…
Когда же слух осуществился и сомневаться уже было невозможно, – в первую минуту он остолбенел и неподвижно простоял несколько времени, как-то дико вытаращив глаза. Вся кровь вдруг прилила к его темени, и лицо приняло жаркий, пурпуровый колорит, который на картине бы показался невозможным… Минута – и может быть, – смертельный удар был бы неизбежен, если бы не случайно находившийся тут доктор… Доктор бросился на него с ланцетом и пустил кровь.
После трех чашек густой, черной, запекшейся крови благонамереннейший господин отошел и посмотрел кругом более мягким взором, произнеся:
– Боже мой, боже мой!.. Что же это наконец?.. Ночь он, однако, провел довольно покойно.
Но на следующее утро снова пришел в состояние неслыханного раздражения, ударял кулаком по столу и произносил совсем нескладные и отрывистые речи, обращаясь к жене и дочерям:
– Теперь, матушка, кончено!.. Все прихоти выбить из головы… я не знаю, что будет… может, есть нечего будет… очень легко!.. Надо ко всему приготовиться… вот живешь, живешь и доживешь до эдакого… Теперь карнолины – мое почтение… Ситцевое платье – попросту, без затей – вот и все!
Несколько дней после этого благонамереннейший господин даже не ездил в клуб и не играл в карты…
Он заперся в своем кабинете.
Из этого кабинета раздавались иногда восклицании, знакомые удары кулаком по столу, шаги и говор. Но никто не смел войти туда. Благонамереннейший господин выходил оттуда только к завтраку и к обеду… Кушал довольно аппетитно, но вел себя странно: был задумчив, говорил вообще мало, а если и говорил, то нескладно и не обращаясь ни к кому.
– Вот теперь кулебяка с сигом… майонезы… фрикасе разные… а там что?.. зубы на полку… щи… каша. И за что? Вот сорок лет и служи отечеству…
Генеральша с боязливым участием взглядывала на генерала.
– Что такое, друг мой? – решалась замечать она, – что ты говоришь?.. И отчего ты такой странный, голубчик?
– Ничего… я ничего… Что такое? – перебивал он вздрагивая, – тсс!.. тсс!.. – и он начинал делать супруге многозначительные знаки глазами, указывая на казачка и на людей, служивших за столом.
При выходе из-за стола он наклонился к уху супруги и шептал:
– Ах, какая ты неосторожная!.. как это можно!.. при людях!..
Проходя мимо казачка, его превосходительство пристально взглядывал на него и потом шепотом говорил дочери:
– Ты заметила, как он на меня смотрит?.. Еще диче прежнего… это я понимаю, что такое…
Такое поведение благонамереннейшего господина и такие странные речи не могли не испугать его семейства. Супруга и дочери его передали все это домашнему доктору.
Доктор улыбнулся и сказал:
– Это ничего, – пройдет… Я знаю, что всякое новое положение, всякая перемена, покуда он с нею не освоится, действует на него тяжело… У него мало восприимчивости в натуре. Ему надо рассеяние; я посоветую ему…
Доктор вошел в его кабинет. Благонамереннейший господин сидел у своего письменного стола, опустив печально голову, с безнадежным выражением в лице.
– Ну, что, ваше превосходительство, как ваше здоровье?.. как, идут ваши клубные дела… Хорошо?..
Доктор произнес это веселым и фамильярным тоном, потому что он сам был генерал.
– Ааа! – воскликнул благонамереннейший господин, услышав голос доктора, – здравствуйте, почтеннейший Ардальон Петрович!.. Ну что, батюшка?! до чего мы дожили! – прибавил он печально и после минуты молчания продолжал: – Клубные дела!.. Какие теперь клубные дела!.. Нет, вы лучше подумайте об этом: ведь у меня в деревне сад, парк, дом – все это содержалось в исправности, в порядке, собственными средствами… Чего это мне стоило?.. Зачем же я убивал деньги на все это?..
– И, полноте! Ну что ж, – возразил доктор, – и вы будете всем этим пользоваться… Вот я к вам когда-нибудь приеду в деревню… Посмотрю, как вы все это там устроили… Я знаю, что вы большой хозяин…
Благонамереннейший господин посмотрел на доктора, как на сумасшедшего, и сказал:
– Что с вами? Полноте? все пропало… Теперь уж все кончено…
– Э, батюшка… ей-богу, все прекрасно обойдется… поверьте… – перебил доктор. – Да что вы дома-то сидите?.. Вам нужно движение, рассеяние… Поезжайте-ко в клуб сегодня…
Благонамереннейший господин, к удовольствию своего семейства, по собственному побуждению или по совету доктора, вечером поехал в клуб.
При встрече со своими партнерами и друзьями он грустно и значительно пожал им руки и молча покачал головою… Те, в свою очередь, так же печально и молча покачали головами…
– Ах, ах, ах! – вырвалось наконец из груди благонамереннейшего господина.
– Не думали мы дожить до таких времен! – произнес один из друзей его.
– Нет, вот вы посудите… у меня там сад, парк, дом с иголочки… чего это стоило!.. – начал было его превосходительство…
– Сделайте одолжение… нет, уж лучше об этом не говорить… я не могу об этом говорить хладнокровно, – перебил сморщенный и, по-видимому, значительный старичок в паричке, с накрашенными бакенбардами, дрожа всем телом, – я запретил об этом говорить и у себя дома, – лучше-ка вот займемся этим…
И он указал на зеленый стол, на котором уже горели четыре свечи, лежали прекрасно заостренные мелки и колоды отборных карт.
Еще и до сих пор мой благонамереннейший господин, середи обыкновенного разговора, вдруг прерывая его, начинает как будто заговариваться и произносить слова и фразы, не имеющие между собой никакой связи: «дом… жена… служба… парк… дети… я патриот… генерал, вы сами согласитесь… чего это мне стоило… это невозможно сорок два года службы… Что же это?» Но вообще в последнее время он, слава богу, начал говорить несколько посвязнее… На днях, слушая, с каким бешенством он кричал против всех улучшений и нововведений, я подумал:
«Однако можно ли его теперь называть благонамереннейшим господином?.. Это вопрос… В старые годы он называл неблагонамеренными и опасными людей недовольных даже петербургскою погодою и дурно отзывавшихся о петербургском климате… На того, кто изъявлял какое-нибудь неудовольствие, хотя против кислой капусты и квасу, он смотрел уже как на врага отечества; того, кто читал книги и с похвалой отзывался о заграничной жизни, он называл либералом… А теперь… Как время-то подшучивает над людьми и как странно меняет роли!.. Кто бы мог поверить пять лет назад тому, что его превосходительство будет принадлежать к недовольным?.. А по его же собственному определению, недовольные принадлежат к людям неблагонамеренным. Во всяком случае, я ни за что на свете не позволю себе назвать этим именем его превосходительство.»
Вчера один мой знакомый сказывал мне, что его превосходительство со всем семейством изволит отправиться за границу… «Я, говорит, там отдохну от всего и, вероятно, останусь надолго…»
– Неужели? – воскликнул я. – Чудеса! Свет решительно начинает идти навыворот..
– Что это за народец нынче (говорит благонамереннейший господин своему приятелю), – сил недостает справляться с ними! Выписал я из деревни мальчика, привезли его, велел я его позвать в переднюю, чтобы посмотреть; выхожу, смотрю… Не понравился мне, смотрит эдакой букой, исподлобья, грязный, нечесаный… велел я его обмыть, выстричь, вычесать; одели его потом в казакинчик, – ну принял, кажется, человеческий образ, а все смотрит исподлобья… и веришь ли, до сих пор не могу приучить его смотреть мне прямо в глаза… какие меры ни принимал, ничего не помогает. А уж в том не бывать проку, кто смотрит исподлобья! Я это заметил… Задал я ему должность, кажется, не велика: топить печку в маленькой гостиной моей да прибирать ее. Там, ты знаешь, у меня на мебели… дочери вышили по канве… цветы и птицы… На одном стуле – птицы, а на другом – цветы. Вот я и говорю ему: «Смотри, когда будешь убирать, ставь стулья так, чтобы цветы были с цветами, а птицы с птицами… слышишь?..» Что ж бы вы думали?.. ничего не бывало; вечно, каналья, перемешает: цветы рядом с птицами, а птицы с цветами поставит… Извольте с эдаким народцем возиться: четырнадцатилетнему мальчишке в голову ничего вбить нельзя!.. И ведь не потому, чтобы он не понимал, – нет, просто потому, что не хочет, нет усердия, желания угодить барину, чувства нет… Я ведь помню, как прежде люди служили – только и думали о том, чтобы сделать барину что-нибудь угодное, смотрели ему в глаза, чтобы предупредить его желание… а нынче – это ни на что не похоже… Занемог у меня на прошедшей неделе камердинер, другие люди все своим делом заняты, я не хотел их отвлекать от дела, и призываю этого мальчишку… «Покуда, я говорю, Алексашка болен, ты будешь исправлять должность моего камердинера», – и смотрю, какое это на него впечатление произведет… Что же? стоит как пень, насупившись и уткнул глаза в пол, никакого выражения в лице, точно как будто я сказал ему: «Принеси стакан воды», – и не чувствует той милости, которую делает ему барин, допуская так близко к себе, а ведь три месяца назад он свиней пас в деревне!.. Нет, любезнейший друг, в плохие времена живем мы!..
И благонамереннейший господин в заключение, качая головою, испускает глубокий вздох.
Но его превосходительство несправедлив: виноваты не казачок, не прислуга его, которою он десять лет тому назад был очень доволен и которая служит ему с прежним усердием, – всему причиною внутреннее настроение духа его превосходительства; недовольство тем, что с ходом времени совершаются различные перемены и преобразования, которые ему не нравятся… Фуражки, юнкера на извозчиках, молодые генералы, литература, изобличающая взяточников, – все это мешает ему жить… Он, кажется, готов бы, если можно, с бешенством броситься на время, схватить его за шиворот, как подчиненного, и остановить. Ему бы хотелось, чтобы это неудержимое, бог знает для чего, так быстро бегущее время – всеоживляющее и всеобновляющее… замерло и окоченело в том положении, в каком оно было несколько лет назад тому, – в те дни, когда перед ним вытягивались в струнку писаря, курьеры и чиновники; когда все было шито и крыто; когда он чувствовал свою силу, ощущал, что он не просто генерал в отставке, на которого никто не обращает внимания, а особа, приводящая в трепет и замирание несколько десятков людей!
О! если его превосходительство и несправедлив к настоящему времени… не сердитесь на него за это, лучше пожалейте его!.. Не раздражайте его вашими литературными выходками! Хорошо еще, что он не читает ничего, но ведь ему могут прочесть добрые приятели… Оговорка, что такого лица нет в действительности, нисколько не помогает… подобным оговоркам никто верить не хочет. В вашей фантазии, в вымышленном вами лице… непременно тысячи лиц узнают своих приятелей… «Списан как живой! Все его слова, все выражения, просто вылитый!» – начнут кричать эти господа и развезут по городу приятную новость, что Александр Петрович или Григорий Иваныч выставлен в такой-то книжке такого-то журнала… И кончится тем, что даже сам Александр Петрович, нисколько не похожий на выставленное лицо, поверит, что его списали, хотя ни он сочинителя, ни его сочинитель отроду никогда не видывал!..
В этих случаях надобно быть чрезвычайно осторожным. Очень легко можно совсем свести с ума человека, уверив, что его описали… Не шутите с этим; говорят, бывали и такие примеры!..
Но как бы то ни было, дело сделано – и я продолжаю…
Недовольство настоящим моего благонамереннейшего лица возрастало с каждым днем и наконец достигло крайних пределов при одной из последних улучшительных мер, задевшей его за живое.
Когда только носился об этом слух, он не хотел верить и затыкал уши…
– Перестаньте, перестаньте!.. – говорил он, – вздор!.. этого быть не может!.. Я и слушать не хочу…
Когда же слух осуществился и сомневаться уже было невозможно, – в первую минуту он остолбенел и неподвижно простоял несколько времени, как-то дико вытаращив глаза. Вся кровь вдруг прилила к его темени, и лицо приняло жаркий, пурпуровый колорит, который на картине бы показался невозможным… Минута – и может быть, – смертельный удар был бы неизбежен, если бы не случайно находившийся тут доктор… Доктор бросился на него с ланцетом и пустил кровь.
После трех чашек густой, черной, запекшейся крови благонамереннейший господин отошел и посмотрел кругом более мягким взором, произнеся:
– Боже мой, боже мой!.. Что же это наконец?.. Ночь он, однако, провел довольно покойно.
Но на следующее утро снова пришел в состояние неслыханного раздражения, ударял кулаком по столу и произносил совсем нескладные и отрывистые речи, обращаясь к жене и дочерям:
– Теперь, матушка, кончено!.. Все прихоти выбить из головы… я не знаю, что будет… может, есть нечего будет… очень легко!.. Надо ко всему приготовиться… вот живешь, живешь и доживешь до эдакого… Теперь карнолины – мое почтение… Ситцевое платье – попросту, без затей – вот и все!
Несколько дней после этого благонамереннейший господин даже не ездил в клуб и не играл в карты…
Он заперся в своем кабинете.
Из этого кабинета раздавались иногда восклицании, знакомые удары кулаком по столу, шаги и говор. Но никто не смел войти туда. Благонамереннейший господин выходил оттуда только к завтраку и к обеду… Кушал довольно аппетитно, но вел себя странно: был задумчив, говорил вообще мало, а если и говорил, то нескладно и не обращаясь ни к кому.
– Вот теперь кулебяка с сигом… майонезы… фрикасе разные… а там что?.. зубы на полку… щи… каша. И за что? Вот сорок лет и служи отечеству…
Генеральша с боязливым участием взглядывала на генерала.
– Что такое, друг мой? – решалась замечать она, – что ты говоришь?.. И отчего ты такой странный, голубчик?
– Ничего… я ничего… Что такое? – перебивал он вздрагивая, – тсс!.. тсс!.. – и он начинал делать супруге многозначительные знаки глазами, указывая на казачка и на людей, служивших за столом.
При выходе из-за стола он наклонился к уху супруги и шептал:
– Ах, какая ты неосторожная!.. как это можно!.. при людях!..
Проходя мимо казачка, его превосходительство пристально взглядывал на него и потом шепотом говорил дочери:
– Ты заметила, как он на меня смотрит?.. Еще диче прежнего… это я понимаю, что такое…
Такое поведение благонамереннейшего господина и такие странные речи не могли не испугать его семейства. Супруга и дочери его передали все это домашнему доктору.
Доктор улыбнулся и сказал:
– Это ничего, – пройдет… Я знаю, что всякое новое положение, всякая перемена, покуда он с нею не освоится, действует на него тяжело… У него мало восприимчивости в натуре. Ему надо рассеяние; я посоветую ему…
Доктор вошел в его кабинет. Благонамереннейший господин сидел у своего письменного стола, опустив печально голову, с безнадежным выражением в лице.
– Ну, что, ваше превосходительство, как ваше здоровье?.. как, идут ваши клубные дела… Хорошо?..
Доктор произнес это веселым и фамильярным тоном, потому что он сам был генерал.
– Ааа! – воскликнул благонамереннейший господин, услышав голос доктора, – здравствуйте, почтеннейший Ардальон Петрович!.. Ну что, батюшка?! до чего мы дожили! – прибавил он печально и после минуты молчания продолжал: – Клубные дела!.. Какие теперь клубные дела!.. Нет, вы лучше подумайте об этом: ведь у меня в деревне сад, парк, дом – все это содержалось в исправности, в порядке, собственными средствами… Чего это мне стоило?.. Зачем же я убивал деньги на все это?..
– И, полноте! Ну что ж, – возразил доктор, – и вы будете всем этим пользоваться… Вот я к вам когда-нибудь приеду в деревню… Посмотрю, как вы все это там устроили… Я знаю, что вы большой хозяин…
Благонамереннейший господин посмотрел на доктора, как на сумасшедшего, и сказал:
– Что с вами? Полноте? все пропало… Теперь уж все кончено…
– Э, батюшка… ей-богу, все прекрасно обойдется… поверьте… – перебил доктор. – Да что вы дома-то сидите?.. Вам нужно движение, рассеяние… Поезжайте-ко в клуб сегодня…
Благонамереннейший господин, к удовольствию своего семейства, по собственному побуждению или по совету доктора, вечером поехал в клуб.
При встрече со своими партнерами и друзьями он грустно и значительно пожал им руки и молча покачал головою… Те, в свою очередь, так же печально и молча покачали головами…
– Ах, ах, ах! – вырвалось наконец из груди благонамереннейшего господина.
– Не думали мы дожить до таких времен! – произнес один из друзей его.
– Нет, вот вы посудите… у меня там сад, парк, дом с иголочки… чего это стоило!.. – начал было его превосходительство…
– Сделайте одолжение… нет, уж лучше об этом не говорить… я не могу об этом говорить хладнокровно, – перебил сморщенный и, по-видимому, значительный старичок в паричке, с накрашенными бакенбардами, дрожа всем телом, – я запретил об этом говорить и у себя дома, – лучше-ка вот займемся этим…
И он указал на зеленый стол, на котором уже горели четыре свечи, лежали прекрасно заостренные мелки и колоды отборных карт.
Еще и до сих пор мой благонамереннейший господин, середи обыкновенного разговора, вдруг прерывая его, начинает как будто заговариваться и произносить слова и фразы, не имеющие между собой никакой связи: «дом… жена… служба… парк… дети… я патриот… генерал, вы сами согласитесь… чего это мне стоило… это невозможно сорок два года службы… Что же это?» Но вообще в последнее время он, слава богу, начал говорить несколько посвязнее… На днях, слушая, с каким бешенством он кричал против всех улучшений и нововведений, я подумал:
«Однако можно ли его теперь называть благонамереннейшим господином?.. Это вопрос… В старые годы он называл неблагонамеренными и опасными людей недовольных даже петербургскою погодою и дурно отзывавшихся о петербургском климате… На того, кто изъявлял какое-нибудь неудовольствие, хотя против кислой капусты и квасу, он смотрел уже как на врага отечества; того, кто читал книги и с похвалой отзывался о заграничной жизни, он называл либералом… А теперь… Как время-то подшучивает над людьми и как странно меняет роли!.. Кто бы мог поверить пять лет назад тому, что его превосходительство будет принадлежать к недовольным?.. А по его же собственному определению, недовольные принадлежат к людям неблагонамеренным. Во всяком случае, я ни за что на свете не позволю себе назвать этим именем его превосходительство.»
Вчера один мой знакомый сказывал мне, что его превосходительство со всем семейством изволит отправиться за границу… «Я, говорит, там отдохну от всего и, вероятно, останусь надолго…»
– Неужели? – воскликнул я. – Чудеса! Свет решительно начинает идти навыворот..