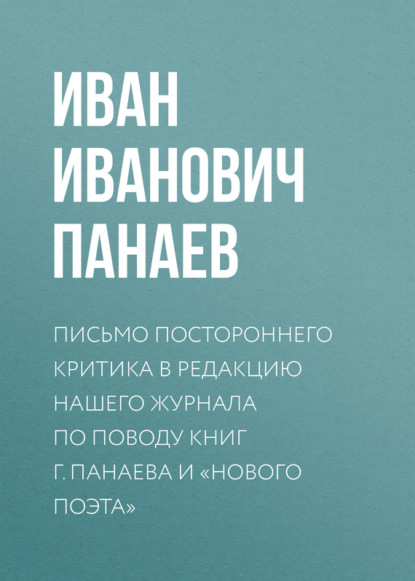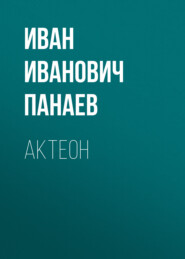По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Письмо постороннего критика в редакцию нашего журнала по поводу книг г. Панаева и «Нового поэта»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Как только раздался свист – его могло остановить общество, могло и поощрить тоже общество.»
А за чем? позвольте спросить. Зачем останавливать? Пусть свищут. Они иногда очень смешно свищут. И то ужь хорошо, что покрайней-мере можно свистать. И без вас найдется много охотников прекращать, искоренять и очищать. Пусть себе свищут! Если свист будет кстати, общество, к которому вы взываете о приостановлении его, будет в выигрыше. Если же он окажется дурным, то, поверьте, он сам собою прекратится: само общество прекратит его. Покойный Булгарин свистал бывало каждую субботу и досвистался до того, что убил в общем мнении свою газету, хотя на нее и подписывались. Не понимаю, о чем вы хлопочете. Знаменитый свисток едва ли уже не покончил своего существования. Покрайней мере редакция Современника в объявлении об издании своего журнала на 1861 год необыкновенно робко и то в выноске и мелким шрифтом упоминает о нем. А далеко ли то время, когда она с гордостию считала свисток своим важнейшим отделом, употребляя на него лучшия свои силы. Пусть будет он и важнейший, но зачем вы-то придаете ему такое огромное значение. Вещи часто становятся важными не потому, чтоб сами по себе были важны, а потому что все считают их таковыми. Вы как будто боитесь, чтоб он вместе с другими нашими шуточными журналами не увлек нашей публики, не совратил с настоящего пути нашего общества. Пустые страхи. Публика уже не прежний ребенок, веривший когда-то всякому печатному слову. В последния двадцать лет она кое-что прочла и кое над чем крепко задумывалась. Пусть свищут; дайте полную свободу этому свисту; пусть публика прислушается к нему. Это будет полезно и для вас, писателей и журналистов. Вы подметите, чему она будет сочувствовать, от чего она будет с омерзением отвращаться. Для вас тут отличный случай узнать ее покороче. Ведь что ни говорите, а она еще сфинкс для вас, и вы ее почти не знаете. Вы взываете к обществу и говорите, что общество должно прекратить этот свист. Оно и прекратит его, если он часто будет сбиваться с тону и вместо смеха, то добродушного, то колкого, станет подчивать его площадною бранью и вовсе неостроумными ругательствами. Смеяться и заставлять других смеяться дело вовсе нелегкое, милостивый государь. Чтоб смеяться, нужно сперва знать, над чем смеяться, потомучто смеяться надо всем без разбору значит ни над чем не смеяться. Вы говорите:
«Какое ж наше общество? Достаточно ли оно подготовлено для решения этого вопроса? Что еслиб подобный свист раздался – не говорим в Германии и Англии – но даже в теперешней Франции, как бы взглянуло на свистунов долго живущее литературною жизнию общество? Там бы оно ответило личной расправой, которая весьма действительна для лиц, скрывающихся под псевдонимами; а потом и общим презрением покрыло бы людей, которые глумятся без цели, смеются над тем, чт? их же вскормило. Дело литературы есть дело общества, и потому Правительство на западе, дав средства защитить личность, само ни во что не вмешивается.»
В этом деле, мне кажется, наше общество на столько же подготовлено, как и всякое другое, как французское, как английское. В последние прожитые нами с таким волнением годы мы видели в этих обществах столько неразумного смеха, столько диких вопиющих глумлений, что смело можно сказать: общество в этом отношении везде одинаково. Вся разница нашего общества от французского или английского, (повторяю, только в этом отношении) заключается в том, что у нас почти нет партий, по крайней мере строго организованных, и наше общество, если и смеется иногда не впопад, то по крайней мере бескорыстно. Смеется, потомучто смешно, а не потомучто осмеянная личность принадлежит к враждебной какой-нибудь партии. Да и на западе, милостивый государь, общество само по себе, а суд сам по себе. И там одно общество не доставит еще удовлетворения обиженному. Нужен еще для этого и суд. Вы, кажется, принимаете общество за какое-то единичное лицо, которое вдруг ни с того ни с сего придет к обидчику, да и скажет ему: как вы смеете, сударь, обижать такого-то? Вот я вас! Неодобрение, холодность общества в этом случае тоже неудовлетворительны. И там ведь не без медных лбов, которые не глядят ни на какое общественное мнение. Прибегать же к личной расправе, как вы намекаете, везде возможно: это зависит от воли. Этой личной расправой и объясняются все дуэли, о которых мы, к сожалению, так часто слышим. Французский фельетонист больше боится истории, чем общественного мнения. Посмеется ли он, и то больше ради острого словца, над каким-нибудь фантастическим офицером, ну хоть объевшимся за пирушкой, как на другой день десяток уже вовсе не фантастических офицеров, а какого-нибудь линейного полка с номером, явятся к нему, примут словцо его на свой счет, войдут в гонор и поставят его на барьер. Точь в точь титулярные советники у Гоголя. Вот потому-то о французской армии они говорят не иначе, как с напыщенной похвалою. Личная же расправа – самая печальная, самая смешная и самая неудовлетворительная из всех расправ и бывает не в одной Франции или Англии. Кто любит ее, тот может прибегать к ней везде. Наши будочники в прежния времена это хорошо знали, а извощики и теперь любят этот способ замирения. Вот почему я никак не понимаю, какой логике следовали вы, милостивый государь, так торжественно объявив, что «там (т. е. на западе) общество ответило бы личной расправой, которая весьма действительна для лиц, скрывающихся под псевдонимами.» Конечно позволительно защитить себя в крайнем случае и крайними средствами, но только тогда, когда вас лишают чести, доброго имени, и лишают несправедливо, то есть прямо клевещут на вас, и когда наконец у вас в виду нет другого настоящего удовлетворения, кроме личного. Где ж нашли вы у нас, чтоб прямо, открыто на кого-нибудь клеветали? Если это и было, то клевета тотчас же бывала наказана. Если и было, то по крайней мере вовсе не относилось к литературе. Клевета есть подлость и, поверьте, и наша литература не снесет её, не позволит её в своей среде. Если же лицо не оклеветано, если оно действительно виновато, отвратительно или смешно, то оно подвержено общему суду или насмешке с той самой минуты, когда оно делается общественным, то есть заявит себя фактом.
Не понимаю я тоже и вашего следующего вопроса:
«Таково ли наше общество? Потребовать от него того же, что мы вправе требовать от общества западного, давно осевшего в установленных границах, определившего себя, свои права и обязанности, мы не имеем никакого права. Наше общество молодо в литературном деле до степени невероятной, хотя оно в этом нисколько не виновато. Руководить это общество обязана была литература – а она, из барышей и легкой репутации, начала угождать ему! Чему угождать? Мог ли угодить в Германии тамошнему обществу тот скандал, который господствует у нас? Отвечаем положительно: нет! Высота, на которой стоит там наука и литература, задавила бы эти неудачные порождения бездарности и малограмотности. В Англии – пуританизм общества (тоже весьма похвальная черта) и сильно развитая личность уничтожили бы его давно; во Франции личная расправа сократила бы эти порывы доморощеных панфлетистов. А у нас что может противупоставить им общество, для которого это явление и ново и неожиданно? Чья ж это обязанность? Конечно не правительства, которому не усмотреть за всеми мелочами. Общество должно само себя защитить и т. д., и т. д.
Тут я уже не обращаюсь более к почтенным редакторам «От. Зап.», а говорю с вами, милостивый государь, и спрашиваю вас, что это такое? Общество наше молодо, юно, зелено – прекрасно! стало-быть и взять с него нечего. На нет и суда нет. Я вот например совершенно уверен, что в этом отношении наше общество – как и всякое другое общество; но пусть будет оно молодо, юно и зелено. Пусть руководить это юное общество должна литература. Да ведь она же его и руководит. Что же после этого делали «Отеч. Зап.» в продолжение стольких лет своего существования? Что же делают другие наши журналы? Что же делают самые скандалы, как вы называете их, – как не руководят этого общества? Чтоб знать, чему смеяться и на что негодовать, оно должно же иметь примеры. Читая разные стишки, панфлеты и куплеты, оно этому и учится. Для общества это превосходнейшая школа, точно также как и для вас, господ журналистов и писателей. Между тем как общество испробует меру и силу своих симпатий и своего отвращения, вы, милостивые государи, все, и писатели и журналисты, вы попривыкнете к некоторой свободе выражения. Ведь не даром же вы так ждали и так алкали этой свободы выражения. Вы так молили о ней всех богов Олимпа. Неужели и для вас она будет ненавистной цаплей?
Нет, милостивые государи, поучитесь сами извинять некоторые уклонения этой свободы выражения. Иначе и про вас можно будет сказать, что вы также молоды, юны и зелены, как наша литература. Неужели знаменитая фраза: мы не созрели, несправедливая в том случае, при котором была произнесена, окажется справедливою только относительно вас, предводителей и учителей общества, вас, столпов литературы. Общество может быть молодым, оно даже всегда молодо, потомучто всегда обновляется, но вы, умудренные и убеленные временем (ибо многие из вас убелены уже временем), вы не можете укрыться под это детское и смешное извинение. Личность развитая и просвещенная всегда опережает общество, а вы ведь гордитесь именно тем, что развиты и просвещены. И потому ваше дело вести это общество вперед, и, главное, собою подавать пример уважения к гласности. Нет, господа, вы не то чтоб недозрели, а кажется перезрели. Вы говорите, что общество наше молодо, что для него явление это (т. е. скандалы) и ново и неожиданно. Совершенно справедливо. Стало-быть нечего и претендовать на общество, если оно ошибается, если смеется над тем, что заслуживает симпатию. А вмешивать в это дело правительство конечно не для чего, и в этом я совершенно согласен с «Отеч. Зап.»; мне странно, что они даже выразили эту мысль и этим показали, как будто сами сомневаются в её непреложности.
Вот все, что я хотел сказать вам, милостивый государь, о скандалах. Повторяю, скандалы, по-моему мнению, не в стишках и не в фельетонах. Если же называть так стишки и фельетоны, то ужь скорее скандалы в статьях серьёзных и в журналах важных. По крайней мере там они и серьёзнее и важнее. Когда нибудь я поговорю подробнее о них, а теперь и без того письмо мое вышло слишком длинно. Если вы найдете его достойным печати, то напечатайте и примите и пр. и пр.
Посторонний критик
P. S. Что же касается до книг гг. Ивана Панаева и Нового Поэта, то я перечел их даже с удовольствием и не нашол в них явного скандала. Писано про каких-то нехороших редакторов, про каких-то смешных приятелей. Почем я знаю, кто это? Еслиж Новый Поэт действительно описывает живые лица, настоящих своих приятелей и неприятелей, – то пусть это остается на его совести. Не мое дело. Только-бы не клеветал и не глумился над тем, что честно и справедливо и не смешно. О, тогда это и меня заденет, хотя и не про меня будет писано, – заденет как дурной поступок, как нехорошее дело; но мне кажется Новый Поэт всегда смеется над тем, что в самом деле смешно, а повести г. Панаева большею частию были напечатаны в «От. Зап.», где их во время оно весьма хвалили. они и до сих пор читаются с удовольствием и нисколько не виноваты в том, что г. Панаев из прежнего сотрудника «Отеч. Зап.» сделался сам редактором Современника. Отзываться же о них поэтому случаю, после прежних похвал, с обидными насмешками – помоему скандал, настоящий, крупный, неопровержимый скандал.
Ноября 28 дня 1860 г.
Сельцо Синия-Горки.
notes
Сноски
1
Из всех толкуш самая скучная есть без сомнения литературная толкуша. Что бы г. Панаеву в пандан к своей прекрасной повести: «литературная тля» описать литературную толкушу.