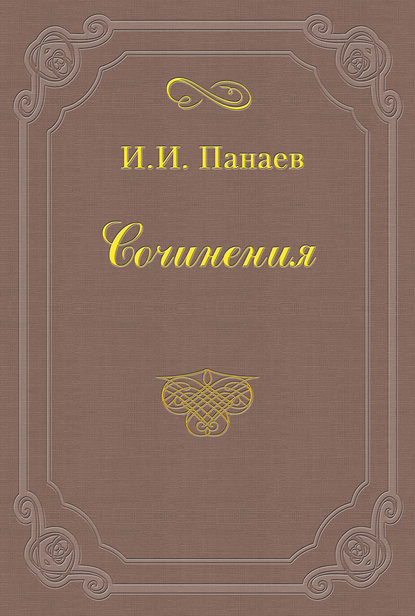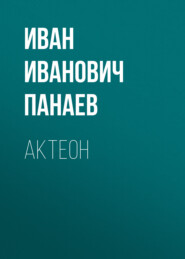По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Великосветский хлыщ
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, пожалуй.
– У тебя есть здесь экипаж?
– Есть.
– Ну, так едем вместе.
Щелкалов сел с Сашей в его коляску и приказал кучеру ехать к Леграну.
Барон заказал в самом деле великолепный ужин: с устрицами, с трюфелями, с замороженным шампанским, поил Сашу, рассказывал ему анекдоты, не умолкал ни на минуту и все становился любезнее и остроумнее. Был уже час третий в исходе. Саше захотелось спать.
– Подай счет, что следует с меня? – сказал он лакею, полагая, что барон, пригласивший его, не допустит его платить, но Щелкалов молчал.
Счет был принесен. Саше следовало отдать за себя рублей около пятнадцати. Саша взглянул на счет, отдал его лакею и сказал, чтоб этот ужин записали, потому что у него нет с собой денег.
А барон все рассказывал какое-то презабавное происшествие и вдруг остановился в ту минуту, когда Саша возвращал счет лакею, сказав очень спокойно:
– Вели и мой ужин записать на свой счет. Мы с тобою после сочтемся.
И тотчас же продолжал прерванный рассказ, как ни в чем не бывало…
Тот, кто не знал Щелкалова коротко, а видал его только в обществах издали и слышал его рассуждения, ни за что не поверил бы всем этим фактам, – столько ненависти, столько желчи, столько презрения обнаруживал он, когда речь шла о каком-нибудь низком поступке.
Как понимал он назначение человека и дворянина, как клеймил недостойных потомков знаменитых родов, как превосходно рассуждал о том, в какой чистоте и неприкосновенности должно хранить имя, переданное от предков, и прочее, и прочее.
В это время я уже довольно хорошо знал его, но, несмотря на это, он приводил меня иногда в недоумение.
С тех пор, как он узнал о моих знакомствах с различными господами, которых он звал, как я уже заметил, уменьшительными именами, Щелкалов совершенно переменился со мною, сделался очень любезен и прост. Раз как-то я его встретил на Невском.
– Куда вы? пойдемте вместе, – сказал он, продевая свою руку в мою.
Расхаживая довольно долго рука об руку, мы разговаривали о разных предметах. Я не раз сомневался в его уме, но в этот раз должен был сознаться, что мои сомнения были несправедливы, что он точно умен; что у него только слово и дело были в постоянном разладе – и даже не имели ничего общего между собою. Барон остроумно и очень ядовито преследовал иногда в других то, чего сам в себе не видел или не умел видеть и в чем самого его можно было поймать на каждом шагу.
Навстречу нам попался какой-то господин, полный, высокий, с правильными чертами лица, с орлиным носом, с важною поступью, с самодовольною улыбкой, по-видимому, один из самых гордых и недоступных на вид. Он сделал Щелкалову на воздухе какие – то знаки рукою и чуть-чуть шевельнул головою, слегка улыбнувшись.
Щелкалов спросил у меня, знаю ли я этого господина? Я сказал, что нет.
– Как, неужели? – возразил он, лицо его подернулось иронией. – Это, батюшка, лицо замечательное… у нас в свете, в нашем муравейнике… Это такой-то (он назвал мне его имя со всеми принадлежащими к нему украшениями), видите ли, первое – bel homme, второе – богат, третье – глуп и скучен, – и совершенно в равной степени. От важности и довольства самим собою он как будто не идет по земле, а плывет по воздуху. Он очень хитер на различные изобретения; он долго занимался теорией поклонов и дошел в этом до высочайшей тонкости, надо сознаться. Он кланяется с удивительным разнообразием, смотря по степени важности и значения человека в свете. В Китае он был бы великим человеком. Ему бы надо родиться в Пекине, а не в Петербурге. Самым значительным кланяется он, наклоня голову в пояс и потом медленно приподнимая ее и смотря им прямо в глаза с выражением в зрачке умиления, смешанного с безграничною преданностью; перед менее значительными он наклоняет голову до ложечки, а на лице у него в это время изображается улыбка, выражающая глубочайшее почтение; равным себе он только трясет головою, приятно улыбается и в то же время прикладывает руку к губам; для низших и малозначительных у него тысячи оттенков в поклоне: иным он кланяется, прикасаясь рукою к полям шляпы и сохраняя строгую важность в физиономии; другим – только до половины приподнимая руку; а при встрече с самыми последними, с самыми маленькими, по его мнению, он только делает вид, что желает пошевельнуть руку для поднесения ее к шляпе. У него, впрочем, еще больше этих подразделений; я вам говорю только о самых характеристических! Мне он поклонился как человеку, которого он знает с детства, с которым встречается в свете, – это выражается у него болтаньем руки на воздухе и легкою улыбкой. Хитрый ведь господин!.. Не правда ли?
Произнеся это, барон вдруг поднял голову и начал смотреть на вывески.
– Зайдемте вот в этот магазин на одну минуту, – сказал он мне, оставив мою руку и поднимаясь на ступеньки.
Я пошел за ним.
Простота Щелкалова и его ум внезапно оставили его у порога магазина. Передо мною очутился уже совсем другой человек, или, вернее, передо мною опять был настоящий барон, не имевший ничего общего с тем человеком, который разговаривал со мною за минуту перед тем.
Он начал с того, что толкнул дверь магазина ногою, так что она с силой хлопнула о прилавок и чуть не разбила стекла ящика, за которым хранились вещи.
– Пару перчаток… мой номер! – закричал он по-французски и, засунув руку за жилет, начал зевать принужденно и вслух, небрежно рассматривая разные вещи в свое стеклышко.
– Какого цвета перчатки, господин барон? – спросил магазинщик.
– Gris-perle… А ведь это недурно! – пробормотал он, обращаясь ко мне и ткнув своей палкой какую-то черепаховую шкатулку с бронзой. – Сколько стоит?
– Сто рублей серебром, господин барон, – отвечал магазинщик.
– Это дорого… Ну, что ж перчатки?
– Вот, господин барон!
И магазинщик подал ему перчатки, завернутые в бумажку.
Барон взял их, положил к себе в карман, проговорил: «На счет», опять зевнул вслух и, едва передвигая ноги, как-то еще особенно шаркая ногами, направился к выходу, потом остановился, полуобернулся и сказал магазинщику, провожавшему его:
– На днях… я зайду… меня просили… Я у вас куплю рублей на пятьсот.
И с этими словами вышел, захлопнув дверь и чуть не прихлопнув еще меня.
Когда барон перестал абонироваться на оперу, он сделался в театре еще заметнее. Он не пропускал ни одного представления, хотя уж потом никогда не покупал кресел. Он знал почти все абонированные кресла первых рядов, потому что они все принадлежали его знакомым; знал, кто из них приезжает в какое время, и по этому расчету садился на чье-нибудь кресло, а при появлении его владетеля пересаживался на другое, и, таким образом переходя с места на место; наконец успокаивался на каком-нибудь пустом, никем не занятом кресле, потому что в опере в первых рядах бывает таких много. Если же театр бывал полон, то он войдет обыкновенно в партер, обведет стеклышком ложи; знакомых окажется, разумеется, довольно, и он в продолжение спектакля кочует из ложи в ложу.
Я сблизился с Щелкаловым в то время, когда у него уже не было ни кресел в театре, ни лошадей на конюшне, ни экипажей в сарае, хотя один из лакеев его все еще красовался в красных плюшевых штанах и в гербовой ливрее, которая, впрочем, была уже значительно поношена. Квартира его в это время заключалась только в трех небольших приемных комнатах, в которых, впрочем, от мебели не было проходу. Тут была и мебель работы лучших мастеров, за которую еще не были заплачены деньги, хотя материя, ее покрывавшая, давно истрепалась и испачкалась, и старинная сборная мебель, до которой барон был большой охотник, купленная им на чистые деньги в разных лавочках на толкучем, и старинные бронзы, и фарфоры, и ковры, и драпри у дверей и окон.
Однажды я зашел к нему. Ливрейный лакей, по обыкновению, побежал докладывать. Барон вышел ко мне навстречу в китайском шелковом халате с цветами и птицами и в туфлях с загнутыми носками. Он, шлепая туфлями, лениво передвигал ноги.
– Очень рад, – сказал он, взяв меня за руку и пожав ее. – Извините, что я принимаю вас в таком костюме (и барон распахнул свой халат и засмеялся). Пойдемте ко мне, в мой кабинет: там мы можем усесться покойнее.
(Это было месяцев через пять после вечера у Грибановых.)
Он усадил меня в покойное кресло, сел против меня и распахнул грудь, вероятно, для того, чтобы обратить мое внимание на свое превосходное белье; он ничего не делал без намерения.
– Вы курите? – спросил он меня.
Я кивнул утвердительно головою.
– Сигареты или турецкий табак?
– Сигары, – отвечал я.
– И прекрасно делаете, – возразил Щелкалов, – с хорошей сигарой ничто в свете не сравнится, я вам дам отличнейшую. Они, правда, дороги, мне обошлись рублей по двадцати за сотню; но ведь все хорошее, к сожалению, дорого!
Барон позвонил, и, когда человек явился, он приказал ему придвинуть старинную шкатулку с перламутровыми инкрустациями, в которой лежало несколько сигар.
– Вещь недурная, заметьте, – сказал он мне, указывая на шкатулку. – Этот ящик подарен моему отцу князем N и достался ему от его бабушки графини Анны Петровны. Историческая вещь!
Барон открыл ящик, вынул сигару, придвинул ко мне свечу и начал рассказывать мне о пирах и празднествах своего отца, о князе N, который ездил к нему одному, был с ним очень дружен, и прочее, и прочее. Рассказ его показался мне очень интересным, но впоследствии он повторялся при мне неоднократно и, как я заметил, с различными прибавлениями и украшениями, что заставило меня несколько усомниться в его исторической достоверности.
– У меня есть много любопытных данных, – прибавил Щелкалов в заключение, подойдя к шкафу, открыв дверцы и указав на какие-то бумаги, перевязанные веревкой, – записки моего деда, отца, переписка его с князем… Я когда-нибудь на досуге примусь за этот хлам, из всего этого можно составить интересную статью… Ну, а что, сигары хороши?
– У тебя есть здесь экипаж?
– Есть.
– Ну, так едем вместе.
Щелкалов сел с Сашей в его коляску и приказал кучеру ехать к Леграну.
Барон заказал в самом деле великолепный ужин: с устрицами, с трюфелями, с замороженным шампанским, поил Сашу, рассказывал ему анекдоты, не умолкал ни на минуту и все становился любезнее и остроумнее. Был уже час третий в исходе. Саше захотелось спать.
– Подай счет, что следует с меня? – сказал он лакею, полагая, что барон, пригласивший его, не допустит его платить, но Щелкалов молчал.
Счет был принесен. Саше следовало отдать за себя рублей около пятнадцати. Саша взглянул на счет, отдал его лакею и сказал, чтоб этот ужин записали, потому что у него нет с собой денег.
А барон все рассказывал какое-то презабавное происшествие и вдруг остановился в ту минуту, когда Саша возвращал счет лакею, сказав очень спокойно:
– Вели и мой ужин записать на свой счет. Мы с тобою после сочтемся.
И тотчас же продолжал прерванный рассказ, как ни в чем не бывало…
Тот, кто не знал Щелкалова коротко, а видал его только в обществах издали и слышал его рассуждения, ни за что не поверил бы всем этим фактам, – столько ненависти, столько желчи, столько презрения обнаруживал он, когда речь шла о каком-нибудь низком поступке.
Как понимал он назначение человека и дворянина, как клеймил недостойных потомков знаменитых родов, как превосходно рассуждал о том, в какой чистоте и неприкосновенности должно хранить имя, переданное от предков, и прочее, и прочее.
В это время я уже довольно хорошо знал его, но, несмотря на это, он приводил меня иногда в недоумение.
С тех пор, как он узнал о моих знакомствах с различными господами, которых он звал, как я уже заметил, уменьшительными именами, Щелкалов совершенно переменился со мною, сделался очень любезен и прост. Раз как-то я его встретил на Невском.
– Куда вы? пойдемте вместе, – сказал он, продевая свою руку в мою.
Расхаживая довольно долго рука об руку, мы разговаривали о разных предметах. Я не раз сомневался в его уме, но в этот раз должен был сознаться, что мои сомнения были несправедливы, что он точно умен; что у него только слово и дело были в постоянном разладе – и даже не имели ничего общего между собою. Барон остроумно и очень ядовито преследовал иногда в других то, чего сам в себе не видел или не умел видеть и в чем самого его можно было поймать на каждом шагу.
Навстречу нам попался какой-то господин, полный, высокий, с правильными чертами лица, с орлиным носом, с важною поступью, с самодовольною улыбкой, по-видимому, один из самых гордых и недоступных на вид. Он сделал Щелкалову на воздухе какие – то знаки рукою и чуть-чуть шевельнул головою, слегка улыбнувшись.
Щелкалов спросил у меня, знаю ли я этого господина? Я сказал, что нет.
– Как, неужели? – возразил он, лицо его подернулось иронией. – Это, батюшка, лицо замечательное… у нас в свете, в нашем муравейнике… Это такой-то (он назвал мне его имя со всеми принадлежащими к нему украшениями), видите ли, первое – bel homme, второе – богат, третье – глуп и скучен, – и совершенно в равной степени. От важности и довольства самим собою он как будто не идет по земле, а плывет по воздуху. Он очень хитер на различные изобретения; он долго занимался теорией поклонов и дошел в этом до высочайшей тонкости, надо сознаться. Он кланяется с удивительным разнообразием, смотря по степени важности и значения человека в свете. В Китае он был бы великим человеком. Ему бы надо родиться в Пекине, а не в Петербурге. Самым значительным кланяется он, наклоня голову в пояс и потом медленно приподнимая ее и смотря им прямо в глаза с выражением в зрачке умиления, смешанного с безграничною преданностью; перед менее значительными он наклоняет голову до ложечки, а на лице у него в это время изображается улыбка, выражающая глубочайшее почтение; равным себе он только трясет головою, приятно улыбается и в то же время прикладывает руку к губам; для низших и малозначительных у него тысячи оттенков в поклоне: иным он кланяется, прикасаясь рукою к полям шляпы и сохраняя строгую важность в физиономии; другим – только до половины приподнимая руку; а при встрече с самыми последними, с самыми маленькими, по его мнению, он только делает вид, что желает пошевельнуть руку для поднесения ее к шляпе. У него, впрочем, еще больше этих подразделений; я вам говорю только о самых характеристических! Мне он поклонился как человеку, которого он знает с детства, с которым встречается в свете, – это выражается у него болтаньем руки на воздухе и легкою улыбкой. Хитрый ведь господин!.. Не правда ли?
Произнеся это, барон вдруг поднял голову и начал смотреть на вывески.
– Зайдемте вот в этот магазин на одну минуту, – сказал он мне, оставив мою руку и поднимаясь на ступеньки.
Я пошел за ним.
Простота Щелкалова и его ум внезапно оставили его у порога магазина. Передо мною очутился уже совсем другой человек, или, вернее, передо мною опять был настоящий барон, не имевший ничего общего с тем человеком, который разговаривал со мною за минуту перед тем.
Он начал с того, что толкнул дверь магазина ногою, так что она с силой хлопнула о прилавок и чуть не разбила стекла ящика, за которым хранились вещи.
– Пару перчаток… мой номер! – закричал он по-французски и, засунув руку за жилет, начал зевать принужденно и вслух, небрежно рассматривая разные вещи в свое стеклышко.
– Какого цвета перчатки, господин барон? – спросил магазинщик.
– Gris-perle… А ведь это недурно! – пробормотал он, обращаясь ко мне и ткнув своей палкой какую-то черепаховую шкатулку с бронзой. – Сколько стоит?
– Сто рублей серебром, господин барон, – отвечал магазинщик.
– Это дорого… Ну, что ж перчатки?
– Вот, господин барон!
И магазинщик подал ему перчатки, завернутые в бумажку.
Барон взял их, положил к себе в карман, проговорил: «На счет», опять зевнул вслух и, едва передвигая ноги, как-то еще особенно шаркая ногами, направился к выходу, потом остановился, полуобернулся и сказал магазинщику, провожавшему его:
– На днях… я зайду… меня просили… Я у вас куплю рублей на пятьсот.
И с этими словами вышел, захлопнув дверь и чуть не прихлопнув еще меня.
Когда барон перестал абонироваться на оперу, он сделался в театре еще заметнее. Он не пропускал ни одного представления, хотя уж потом никогда не покупал кресел. Он знал почти все абонированные кресла первых рядов, потому что они все принадлежали его знакомым; знал, кто из них приезжает в какое время, и по этому расчету садился на чье-нибудь кресло, а при появлении его владетеля пересаживался на другое, и, таким образом переходя с места на место; наконец успокаивался на каком-нибудь пустом, никем не занятом кресле, потому что в опере в первых рядах бывает таких много. Если же театр бывал полон, то он войдет обыкновенно в партер, обведет стеклышком ложи; знакомых окажется, разумеется, довольно, и он в продолжение спектакля кочует из ложи в ложу.
Я сблизился с Щелкаловым в то время, когда у него уже не было ни кресел в театре, ни лошадей на конюшне, ни экипажей в сарае, хотя один из лакеев его все еще красовался в красных плюшевых штанах и в гербовой ливрее, которая, впрочем, была уже значительно поношена. Квартира его в это время заключалась только в трех небольших приемных комнатах, в которых, впрочем, от мебели не было проходу. Тут была и мебель работы лучших мастеров, за которую еще не были заплачены деньги, хотя материя, ее покрывавшая, давно истрепалась и испачкалась, и старинная сборная мебель, до которой барон был большой охотник, купленная им на чистые деньги в разных лавочках на толкучем, и старинные бронзы, и фарфоры, и ковры, и драпри у дверей и окон.
Однажды я зашел к нему. Ливрейный лакей, по обыкновению, побежал докладывать. Барон вышел ко мне навстречу в китайском шелковом халате с цветами и птицами и в туфлях с загнутыми носками. Он, шлепая туфлями, лениво передвигал ноги.
– Очень рад, – сказал он, взяв меня за руку и пожав ее. – Извините, что я принимаю вас в таком костюме (и барон распахнул свой халат и засмеялся). Пойдемте ко мне, в мой кабинет: там мы можем усесться покойнее.
(Это было месяцев через пять после вечера у Грибановых.)
Он усадил меня в покойное кресло, сел против меня и распахнул грудь, вероятно, для того, чтобы обратить мое внимание на свое превосходное белье; он ничего не делал без намерения.
– Вы курите? – спросил он меня.
Я кивнул утвердительно головою.
– Сигареты или турецкий табак?
– Сигары, – отвечал я.
– И прекрасно делаете, – возразил Щелкалов, – с хорошей сигарой ничто в свете не сравнится, я вам дам отличнейшую. Они, правда, дороги, мне обошлись рублей по двадцати за сотню; но ведь все хорошее, к сожалению, дорого!
Барон позвонил, и, когда человек явился, он приказал ему придвинуть старинную шкатулку с перламутровыми инкрустациями, в которой лежало несколько сигар.
– Вещь недурная, заметьте, – сказал он мне, указывая на шкатулку. – Этот ящик подарен моему отцу князем N и достался ему от его бабушки графини Анны Петровны. Историческая вещь!
Барон открыл ящик, вынул сигару, придвинул ко мне свечу и начал рассказывать мне о пирах и празднествах своего отца, о князе N, который ездил к нему одному, был с ним очень дружен, и прочее, и прочее. Рассказ его показался мне очень интересным, но впоследствии он повторялся при мне неоднократно и, как я заметил, с различными прибавлениями и украшениями, что заставило меня несколько усомниться в его исторической достоверности.
– У меня есть много любопытных данных, – прибавил Щелкалов в заключение, подойдя к шкафу, открыв дверцы и указав на какие-то бумаги, перевязанные веревкой, – записки моего деда, отца, переписка его с князем… Я когда-нибудь на досуге примусь за этот хлам, из всего этого можно составить интересную статью… Ну, а что, сигары хороши?