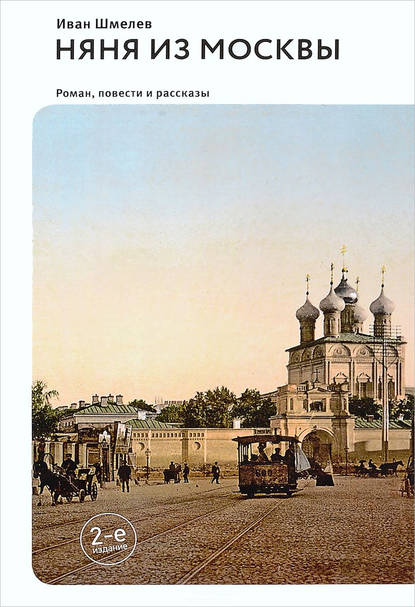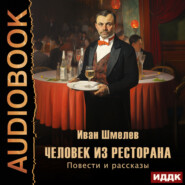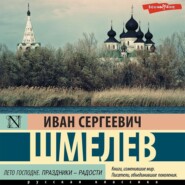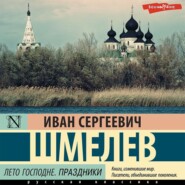По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Няня из Москвы (сборник)
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1933
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Каждый, – говорит, – день в соборе плачу-молюсь, ничего больше нам не осталось, потонули мы все бездонно».
Так и расположил. И фамилии всякие, и то, и се… и знаменитые-то вы стали, и про Москву, слово за слово – вас и помянул. Тут и распуталось. Сколько-то она ему помогла, зеленую бумажку даже поцеловал. А то бы пропадать ему: велят сейчас же на пароход сажаться и отъезжать. Такие там порядки, чтобы выгонять, который беспачпортный. А кто и денег при себе не имеет, прямо в тюрьму сажают. А кто большие деньги имеет, ото всего может откупиться. А он и в Париже нашем уж побывал, только вас не мог разыскать никак.
«Лечу, – говорит, – на вокзал, счастья пытать в Америку, и пароход меня дожидается. Глядь – русская лавочка! Дай, думаю, водочки прихвачу и хоть котлеток наших, а то в Америке не достать. Все, – говорит, – родимое вспомнилось, вбегаю в лавочку… ба-а! – сам господин Медынкин грешневую крупу совочком в пакет швыряет! Только расцеловались, адресок лавочки записал, – поезд ждет, опоздаю на пароход».
Как заплетается-то у нас, барыня, чисто в жмурки играем по белу свету. А еще вот, – ну, прямо не поверишь, как расшвыряло. Стало быть, лавошница наша, в Москве мы жили… хорошая такая, богомольная, Авдотья Васильевна Головкова… – и что же, барыня! Где это вот Дунай-река… как это место-то?.. нам цыган венгерский еще попался, на гитаре все звонил?.. Правда, у ж по череду лучше, а то собьюсь. Ну, сулился беспременно к вам побывать, в Америке уж все у него оборвалось.
«Только бы до Парижа докатиться, а там опять, – говорит, – встану на ноги. Я у них свой человек был, танцы с простыней танцевали… и у них беспременно деньги имеются».
Такой нахал, сущую правду говорите, до чего бесстыжий. Ну, какое кому дело до чужого кармана, вывезли или не вывезли! А уж эти антилигенты, барыня, дочего же завистливы! В Москве сколько насмотрелась. Ну, известно, не все… а насмотрелась.
«Они, – говорит, – с заграницей торговали, у них беспременно в банках тут капиталы спрятаны, а лавочка для прилику только». Уж такой-то наглый, не дай Бог. «Должны быть деньги, секретные». Как это он?.. не секретные, а… Те-мные, вот как. – «Я бы, – говорит, – и в Америку не пустился, далищу такую, киселя хлебать, кабы знать, что Варвара Никитишна близко так». А уж говору-ун!.. «Что мне Америка-то, что мертвому греку пиявка, пользы никакой нет». Да уж билет выправил, и денег ему вперед задали, дилехтора. «Закадычные, – говорит, – друзья с ней были, из одного стаканчика пили, и партретик ихний в медальоне у меня был, да в дороге оторвался».
Прямо са-нтажист, верное ваше слово. Придет, а Катичка растереха, колечки-брошки валяются, где неслед, брилиянты-жемчуга все какие, большие тыщи плачены, – упаси Бог, человека соблазним. Я и поприберу. Все к обеду потрафлял, изголодался. А сбирается, не раз поминал. Разве вот с идолом-то завертится. А как же, и к нему прицепился, да они попусту давать не любят, там и прикурить-то так не дадут. Думатся так, уж не принанял ли его идол-то на тайное какое дело, досматривать… Да нет, сразу-то не поймете, тут все по череду знать надо. Да нет, ничего словно больше не говорил, – про перстенек, да что вот партретик оторвался.
«Теперь бы, – говорит, – этот перстенек… на автомобилях бы раскатывал».
III
Про Васеньку-то я вам… А это она занозу свою все помнила, – знать-то все, – терзала-то его. Она и сама терзалась. Значит, Ковров по фамилии, соседи с нашим именьицем. Сами знаете, какое у барина именьице было, от тетки им выпало, поскребушки. Тетку они давно уж начисто обглодали. Как померла, они в банки побегли справиться, капиталы искали, а ничего и нет, пустой ящик. Как так, должны быть капиталы! А у ней лакей-старичок, сорок годов жил, – не он ли прибрал к рукам? Ну, оправдался, тыща рублей у него только, оказалось, на книжке на сберегательной. Выдало им начальство бумаги теткины, а там все и прописано, сколько они с нее денег перебрали, сами-то даже ахнули… весь ее капитал повыбрали. Уж такие-то несмысленые… а хорошие были люди, грех похулить.
Верно говорите, много барин прахтикой добывал, с другой барыни и по пять тыщ за операцию брал, и приют на свою акушерку держали, а жили-то они как, барыня! Глафира Алексеевна и одеться любили, и в заграницу ездили, и свои тоже расходы были, на студентов помогали, и… Уж покойники оба, а правду вам сказать, денежек что ушло на шантрапу на всякую! Незаконные к ней ходили, полиция вот ловила… с парадного позвонится, часто так – дыр-дыр-дыр, она сама и бежит, по знаку. Посушукаются, – и сейчас в шифонерку, за деньгами. Конечно, не мое дело, а она, простосердая, всему верила. Сказала ей раз, а она мне:
«Для тебя, глупая, стараются-страдают, да не понять тебе только!»
Барин поморщится, скажет:
«Прорва какая-то, надо же разбираться, милочка!»
А она все так:
«Это же наш долг, Костик».
Как уж они столько задолжали, уж и не знаю. Да наскочила еще на хахаля одного, стал он с нее денежки тащить. А он в ведомостях про жуликов печатал. Она глупое письмецо написала, а он прознал, стал грозиться: давайте три тыщи, а то пропечатаю письмо! Прибежала ко мне, голову потеряла:
«Ай, няничка… ославит на всю Москву, и Костик узнает!..»
Все мне, бывало, доверялась; я ее с семи лет ведь знала. А письмо-то к музыканту было, Катичкину учителю. Как уж он его выкрал – не скажу. Было-то чего с музыкантом?.. В доточности не знаю, а… Ну, что, барыня, ворошить, Господь с ними, покойница давно. Ну, выкрал и выкрал. Достали мы за вексель у нашего лавошника Головкова три тыщи, а четыре заплати, на полгода, вон как. Я на образа божилась уж Головкову, отдадим, а он мне как казне верил. И измытарили меня те денежки. Барыня, прости ей, Господи, грех, у барина из карманов помалости вышаривала да мне, греховоднице, – на, попрячь. Больше году набирали, греха что было… в глаза я барину не могла смотреть, измучилась… за грех такой обещание дала сорок раз к Царице Небесной Иверской сходить, сходила. Наберем сполна, она на себя потратит, а Головков меня теребит. Спасибо, Авдотья Васильевна, желанная такая, просила супруга потерпеть. Вот святая душа! Тоже мотается по свету, глазочком только разок и повидала, где вот Дунай-то-река… А газетчик опять грозиться, вот-вот ославит, – тыщу еще давай! Совсем уж затеребил… под машину попал, выпимши. И грех, а мы, правду сказать, перекрестились. А ее все так почитали, Глафиру-то Алексеевну, она все книжки читала, и про все разговаривать умела, и в налехциях бывала, для простого народа все старалась. Две зимы все ходила с музыкантом книжки читать, а он на роялях все играл. Да тут, может, причина-то всему барин: очень она его любила, а он ее огорчал, ну, ей утешение и нужно было. Вот они с тетушки и тащили. А она Катичке кресна была, души в ней не чаяла, – они на Катичку и выпрашивали.
Да много было… А как и не быть-то у Костинтина Аркадьича забавкам!.. Помните, небось, сами… барыни-то ему спокою не давали. Все богачки, листократия самая, время девать некуда, только на баловство. Он к этому делу и пристрастился. А умный ведь какой был, все его так и слушают, как заговорит. Ото всех уважение, подарки, чего-чего не было!.. Высокое бы ему место вышло, кабы не помер да безобразия бы не случилось, большевиков этих. Ну, много тоже и на забавки уходило. Да что я вам, барыня, скажу… я уж и не жалею, что за ними мои пропали, боле двух тыщ пропало. Все едино, получи я свои зажитые – пропали бы. Всем деньгам конец пришел, и тяжелой копеечке, и легкому рублику. Ну, нет и нет у них денег, когда ни попроси.
«А зачем тебе, – скажут, – няничка, деньги… у нас целей будут». А то и так: «Ты уж, нянь, потерпи, вот получим скоро куш, сразу и отдадим».
Три рубли барин сунет, скажет – «это не в счет», – и все. А это они от тетки наследства ждали, куш-то. А хорошие были господа, жалеющие, лучше и не найти. Уж так-то ласковы со мной были, так-то… Заболею я, барин мне и градусник сам поставит, и компрес, и чайку с лимончиком принесет. И барыня, ночью даже вставала, так жалела.
«Няничка, – скажет, – труженица ты наша… самое ты наше дорогое, простой ты народ, тульская ты, мозолистая…» – и руку мне все поглаживает, истинный Бог. А то скажет еще, прости ей, Господи: «Да нам на тебя молиться, как на икону, надо… ведь ты свята-я!..» – а у них и икон-то не висело, и никогда и не молились.
А мне и слушать страшно, и стыдно мне, слезы и потекут. Гляжу на иконку на свою и молюсь: прости ей, Господи, неразумие и меня не осуди. Грешница я, – бывало, сладенького чего возьмешь, без спросу. Конфекты у них не переводились, и пастила, и печенья всякие, и прянички, и орешки заливные, чего-чего только не было! В деньгах, уберег Господь, не грешила и Аксюшу, бывало, не раз ловила. Расте-рехи-и… – ведь это что ж такое! У барыни, где ни поройся, то красенькую, то трешницу найдешь, в книжку засунет и забудет… А у барина в шубу за подкладку заваливались, да па-чки! А то приезжает раз, а у них в ботике семь золотых звенят, в дырку из кармана проскочили. А сколько на улице осталось, и не усчитали: много, говорит, было, карман прорвали. Как в доме денег нет, пойду-пошарю – всегда найду. Барин, бывало, загорячится – «как так нет? где-нибудь должны быть… в диван не завалились ли, в шубе глядите, за подкладкой!» А сладенького брала, по слабости. Барин, как газетку читать, перед взаседанием своим, на турецкий диван завалится и коробками обкладется, и то из одной, то из другой не глядя в рот сует. А денег вот не водилось. Им большое наследство выходило, да оглашенные по Москве палить стали, а там и все деньги отменились. Мы тогда барина в Крым свезли, не до того уж им было. И я бы зажитые получила.
IV
Про Васеньку-то я вам… Соседи по именьицу, Ковровы. Стало быть Катичке счастье тут выходит, и в самый-то бы раз, потому совсем барину удавка пришла: затребовали пять тыщ за вексель, – какой-то он барышне по секрету обещался, а платить не из чего. А барыне сказал – старушку, мол, с Федором-лихачом они задавили и вексель дали внучке старушкиной, мировую сделать. А барыня всему верила. А какую уж там старушку, красная бы цена ей рублей двести, – с руками бы оторвали, небогатый кто, за старушку. Я Федора допытывала – смеялся. Барин ходит-насвистывает. Как свистит, я уж и знаю, – деньги нужны. Ну, перестал свистать… кто-то уж ему снабдил, а то и прахтикой постарался, извернулся. Барыня, помню, говорила все:
«Есть же мешки с деньгами, и не умеют распорядиться!» – завиствовала вам, барыня, что шибко богаты вы. Завиствовала. Бывало, скажет:
«И образования у купцов у этих на медный грош, а деньгами хоть подавись!»
Ссердцов, понятно… тревожилась семейным положением. А тут барин в бега ударился. Да нет, никуда не убегал, а по бегам стал ездить, деньги выигрывать. И вы, барыня, тогда ездили на бега глядеть. Ниночка еще песенку все нам пела – «лошадки скачут, а денежки плачут». Катичка ее обучила, наслушалась от папашеньки. Аграфена Семеновна, носастенькая, економка, бывало, скажет:
«Покатила наша барыня на бега, деньги лошадкам повезла».
Ну, как не помнить, Ниночка с Катичкой билетиками все играли, вы им из сумочки во-от какую кучку вытряхнете, пестренькие все, картоночки. Помню, приехали вы домой, веселые-развеселые, а снег валил, метель такая пошла, и уж темно стало, домой Катичку отводить пора.
А вы приехали, все-то в снегу, разрумянены, горячие, сбросили шубку соболью и давай по зале перед зеркалами танцевать, и пальчиками все прищелкивали. Как же-с, очень хорошо помню, в платье вы в самоновом были, рукава по сех пор, и такие вы счастливые были, барыня… и вдруг мне пять рублей золотой и подарили, ни за что! И Аграфене Семеновне золотой тоже выкинули, – сказали, что много наиграли. И красивые же вы были… прямо как купидомчик! Ну вот, вспомнили… засветились все, вовсе даже, барыня, помолодели! так и вспомнилось, какие вы красивые-то были. Да нет, вы и теперь красивые, барыня… да ведь у молоденьких своя красота, природная. И про билетики нам сказали, – каждый по большому золотому. Уж мы считали-считали, сколько же вы золотых-то наиграли… за две никак сотни золотых! А вы еще посмеялись: «ах, глупые-глупые, да это же все проиграно, а то бы я за картоночки денежки получила!» Теперь бы вот эти золотые… Да тогда разве думалось, что светопредставленье такое будет. Все в свое удовольствие, в себя жили, – вот и не думалось.
И барин в бега ударился, закружился. Его на прахтику требуют, а он по бегам гуляет. Барыня его как стыдила, ловить его ездила, бывало, для прахтики, – ни разу не поймала, увертливый очень был. И такой тоже развеселый, тоже Катичке картоночки все выкидывал. У нас тогда неприятность с барыниным братцем вышла. А как же, братец у них был, только незадачный вышел, по их сословию. Никому про него и не поминали, и к себе не пускали, от стыда. Аполитом его звали. Ну, не задался он у нас, у мамашеньки я тогда жила, его из имназии и выгнали, он и пошел на железную дорогу, в машинисты, и на портнишке женился. Черного уж стал звания, они и брезговали. Он придет, а барин в кабинет уйдут. И еще деньги он требовал, от мамаши наследство, а деньги-то они прожили, а он знал, что и на его долю было… тыщи четыре денег, записка у барыни была посмертная. Ну, и неприятности. Сперва-то он ничего, смирялся. Пришел к барыне крестить звать, она отговорилась. Обиделся он, шкурами их назвал да сгоряча вазу китайскую им и разбил, – барин его чуть палкой не ударил. Скажу им – «Аполитушка вам братец родной, хорошего тоже роду, гнушаетесь-то зачем? а бедных жалеете. И он небогатый, руки мозолистые, пожалели бы его!» Перед знакомыми стыдились, что на портнишке женился. С горя-то он, узнали мы потом, в сацалисты приписался, всех чтобы разорять, с досады. Ну, разбил он вазу, она его выгнала, да расстроилась – побежала проветриться на мороз. А вы тут и подкатили на серых. Саночки легонькие у вас были, а кучер во-какой широченный, – как саночки не раздавит, дивились мы. Барыню не застали, а мы с Аксюшей черепки от вазы подбирали, как вы вошли. Ну вот, вспомнили. Барин с вами и покатили на бега. Я еще в окошечко залюбовалась, какие вы шикарные были, шик! Барин в ту зиму впух совсем проигрался, все туда денежки отвозил, как в банки… столько он просадил, – никакой прахтики не хватало. Вот тетеньку они тогда и начали донимать.
V
Бывало, скажут: не миновать – Иверскую подымать. Я-то понимала, чего греховодники думают. У нас не то что Царицу Небесную никогда не приглашали, а и батюшку с крестом не принимали. Как у нас расстройка какая, барыня в спальню запрется-плачет, я возьму водицы святой и покроплю, помолюсь за них. Ну, будто они дети несмысленые, жалко их. Образов у нас в доме не было, барыня не желала, по своему образованию, и свое благословение, мамаша их замуж благословила, она на дно сундука упрятала. В детской только я уж настояла Катерины-мученицы повесить образок к кроватке, да в прихожей иконка висела, от старых жильцов осталась, вершочка два. А в темненькой у меня и лампадочка теплилась, Никола-Угодник у меня висел, в дорогу-то захватила, и еще Казанская-Матушка. А у них, чисто как у татаров, паутина одна в углах, боле ничего. Да, насмех будто, барин статуя голого купил, «Винерка» называется, в передний угол в зале поставил, под филоденры, – вот и молись. И что я вам, барыня, скажу… – с чего-то нас пауки одолели! Ну, одолели и одолели, сил нет. Навелось паука, так и распостраняется. А чистоту строго наблюдали. Только обмела – опять паутина и паутина. Я уж барыне говорила:
«Смотрите, барыня, паука у нас сила несусветная… не к добру это».
Дернулась она, да с сердцем на меня так:
«Что ты мелешь? почему – не к добру?!.» – а затревожилась.
«К пустоте, – говорю, – пауки одолевают… думатся так, по-деревенски».
«А, глупости… любишь всегда тревожить!»
А я сколько примечала, про паука-то, что к пустоте. Ну, нехорошо и нехорошо у нас, так-то нехорошо-невесело… ну, вот чуется мне пустота-глухота, чисто сарай. Барыня и давай зерькала оглядывать, хорошо ли привязаны. Ужас, как зеркалов боялись, как бы не разбилось.
За тетеньку они, Иверскую-то подымать: тетеньку в гости звать, хорошенечко засластить. Привезут в карете, давай угощать-улащивать:
«Ах, тетечка… ах, милая… совсем-то вы нас забыли, и как вам, тетечка золотая, не стыдно… а мыто скучаем, а мы-то для вас любимого пирожка со сливками, да рябчиков с мадерцовым совусом, и грушки душестые, по зубкам вам… а Катюньчик без вас жить не может…»
Так она и растает. И новую рояль Катюньчику, и на музыканта ей, и выгрышный билет ей… А как проигрался на бегах барин, они и подняли тетушку, всурьез уж. А она на ладан уж дышала, чуть жива, и палец все сосала, как малоумная. После угощенья барин и бух перед ней на коленки. Упал и зарыдал. Уж так-то возрыдал, и ручки ей целовать. А он умел зарыдать, и слезы потекут, исхитрялся, от чувства так. Да я-то уж знаю, барыня, как они исхитрялись… И это у них сговорено так, с Глафирой Алексеевной. И глядеть-то, бывало, надоест, как они исхитряются. Как же не замечать-то, на моих глазах все… А гостей приглашать! спору сколько, будто дом покупать сбираются: того не надо, какой от него прок, а эта прахтику может дать, обязательно надо завлецать… И место кому за столом какое – ну, все прикинут, чисто шелками вышьют. За глаза и ругнут, а зарятся. Фабрикантшу одну сколько годов ловили… только поймали, она и помри. Самую эту, Лопухову, доктору своему сто тыщ отказала, как барыня жалела!
Ну, упал-зарыдал, тетушка так и затрепыхалась, заквохтала, кудри ему давай ерошить, в глаза глядеть…
«Ай, что такое, не пугай, Костинька… или опять накуролесил?..»
А она часто мирила их. А он рыдает!..
«Ах, у Глирочки чахотка в градусе, доктора на горы в заграницу посылают, а у нас нужда вопиющая, бумаги потеряли… поглядите на эту тень!..»
А барыня у притолоки стоит, бе-элая, напудрена, и в платочек покашливает. А тетенька слепая, за рукой не видит…
Так и расположил. И фамилии всякие, и то, и се… и знаменитые-то вы стали, и про Москву, слово за слово – вас и помянул. Тут и распуталось. Сколько-то она ему помогла, зеленую бумажку даже поцеловал. А то бы пропадать ему: велят сейчас же на пароход сажаться и отъезжать. Такие там порядки, чтобы выгонять, который беспачпортный. А кто и денег при себе не имеет, прямо в тюрьму сажают. А кто большие деньги имеет, ото всего может откупиться. А он и в Париже нашем уж побывал, только вас не мог разыскать никак.
«Лечу, – говорит, – на вокзал, счастья пытать в Америку, и пароход меня дожидается. Глядь – русская лавочка! Дай, думаю, водочки прихвачу и хоть котлеток наших, а то в Америке не достать. Все, – говорит, – родимое вспомнилось, вбегаю в лавочку… ба-а! – сам господин Медынкин грешневую крупу совочком в пакет швыряет! Только расцеловались, адресок лавочки записал, – поезд ждет, опоздаю на пароход».
Как заплетается-то у нас, барыня, чисто в жмурки играем по белу свету. А еще вот, – ну, прямо не поверишь, как расшвыряло. Стало быть, лавошница наша, в Москве мы жили… хорошая такая, богомольная, Авдотья Васильевна Головкова… – и что же, барыня! Где это вот Дунай-река… как это место-то?.. нам цыган венгерский еще попался, на гитаре все звонил?.. Правда, у ж по череду лучше, а то собьюсь. Ну, сулился беспременно к вам побывать, в Америке уж все у него оборвалось.
«Только бы до Парижа докатиться, а там опять, – говорит, – встану на ноги. Я у них свой человек был, танцы с простыней танцевали… и у них беспременно деньги имеются».
Такой нахал, сущую правду говорите, до чего бесстыжий. Ну, какое кому дело до чужого кармана, вывезли или не вывезли! А уж эти антилигенты, барыня, дочего же завистливы! В Москве сколько насмотрелась. Ну, известно, не все… а насмотрелась.
«Они, – говорит, – с заграницей торговали, у них беспременно в банках тут капиталы спрятаны, а лавочка для прилику только». Уж такой-то наглый, не дай Бог. «Должны быть деньги, секретные». Как это он?.. не секретные, а… Те-мные, вот как. – «Я бы, – говорит, – и в Америку не пустился, далищу такую, киселя хлебать, кабы знать, что Варвара Никитишна близко так». А уж говору-ун!.. «Что мне Америка-то, что мертвому греку пиявка, пользы никакой нет». Да уж билет выправил, и денег ему вперед задали, дилехтора. «Закадычные, – говорит, – друзья с ней были, из одного стаканчика пили, и партретик ихний в медальоне у меня был, да в дороге оторвался».
Прямо са-нтажист, верное ваше слово. Придет, а Катичка растереха, колечки-брошки валяются, где неслед, брилиянты-жемчуга все какие, большие тыщи плачены, – упаси Бог, человека соблазним. Я и поприберу. Все к обеду потрафлял, изголодался. А сбирается, не раз поминал. Разве вот с идолом-то завертится. А как же, и к нему прицепился, да они попусту давать не любят, там и прикурить-то так не дадут. Думатся так, уж не принанял ли его идол-то на тайное какое дело, досматривать… Да нет, сразу-то не поймете, тут все по череду знать надо. Да нет, ничего словно больше не говорил, – про перстенек, да что вот партретик оторвался.
«Теперь бы, – говорит, – этот перстенек… на автомобилях бы раскатывал».
III
Про Васеньку-то я вам… А это она занозу свою все помнила, – знать-то все, – терзала-то его. Она и сама терзалась. Значит, Ковров по фамилии, соседи с нашим именьицем. Сами знаете, какое у барина именьице было, от тетки им выпало, поскребушки. Тетку они давно уж начисто обглодали. Как померла, они в банки побегли справиться, капиталы искали, а ничего и нет, пустой ящик. Как так, должны быть капиталы! А у ней лакей-старичок, сорок годов жил, – не он ли прибрал к рукам? Ну, оправдался, тыща рублей у него только, оказалось, на книжке на сберегательной. Выдало им начальство бумаги теткины, а там все и прописано, сколько они с нее денег перебрали, сами-то даже ахнули… весь ее капитал повыбрали. Уж такие-то несмысленые… а хорошие были люди, грех похулить.
Верно говорите, много барин прахтикой добывал, с другой барыни и по пять тыщ за операцию брал, и приют на свою акушерку держали, а жили-то они как, барыня! Глафира Алексеевна и одеться любили, и в заграницу ездили, и свои тоже расходы были, на студентов помогали, и… Уж покойники оба, а правду вам сказать, денежек что ушло на шантрапу на всякую! Незаконные к ней ходили, полиция вот ловила… с парадного позвонится, часто так – дыр-дыр-дыр, она сама и бежит, по знаку. Посушукаются, – и сейчас в шифонерку, за деньгами. Конечно, не мое дело, а она, простосердая, всему верила. Сказала ей раз, а она мне:
«Для тебя, глупая, стараются-страдают, да не понять тебе только!»
Барин поморщится, скажет:
«Прорва какая-то, надо же разбираться, милочка!»
А она все так:
«Это же наш долг, Костик».
Как уж они столько задолжали, уж и не знаю. Да наскочила еще на хахаля одного, стал он с нее денежки тащить. А он в ведомостях про жуликов печатал. Она глупое письмецо написала, а он прознал, стал грозиться: давайте три тыщи, а то пропечатаю письмо! Прибежала ко мне, голову потеряла:
«Ай, няничка… ославит на всю Москву, и Костик узнает!..»
Все мне, бывало, доверялась; я ее с семи лет ведь знала. А письмо-то к музыканту было, Катичкину учителю. Как уж он его выкрал – не скажу. Было-то чего с музыкантом?.. В доточности не знаю, а… Ну, что, барыня, ворошить, Господь с ними, покойница давно. Ну, выкрал и выкрал. Достали мы за вексель у нашего лавошника Головкова три тыщи, а четыре заплати, на полгода, вон как. Я на образа божилась уж Головкову, отдадим, а он мне как казне верил. И измытарили меня те денежки. Барыня, прости ей, Господи, грех, у барина из карманов помалости вышаривала да мне, греховоднице, – на, попрячь. Больше году набирали, греха что было… в глаза я барину не могла смотреть, измучилась… за грех такой обещание дала сорок раз к Царице Небесной Иверской сходить, сходила. Наберем сполна, она на себя потратит, а Головков меня теребит. Спасибо, Авдотья Васильевна, желанная такая, просила супруга потерпеть. Вот святая душа! Тоже мотается по свету, глазочком только разок и повидала, где вот Дунай-то-река… А газетчик опять грозиться, вот-вот ославит, – тыщу еще давай! Совсем уж затеребил… под машину попал, выпимши. И грех, а мы, правду сказать, перекрестились. А ее все так почитали, Глафиру-то Алексеевну, она все книжки читала, и про все разговаривать умела, и в налехциях бывала, для простого народа все старалась. Две зимы все ходила с музыкантом книжки читать, а он на роялях все играл. Да тут, может, причина-то всему барин: очень она его любила, а он ее огорчал, ну, ей утешение и нужно было. Вот они с тетушки и тащили. А она Катичке кресна была, души в ней не чаяла, – они на Катичку и выпрашивали.
Да много было… А как и не быть-то у Костинтина Аркадьича забавкам!.. Помните, небось, сами… барыни-то ему спокою не давали. Все богачки, листократия самая, время девать некуда, только на баловство. Он к этому делу и пристрастился. А умный ведь какой был, все его так и слушают, как заговорит. Ото всех уважение, подарки, чего-чего не было!.. Высокое бы ему место вышло, кабы не помер да безобразия бы не случилось, большевиков этих. Ну, много тоже и на забавки уходило. Да что я вам, барыня, скажу… я уж и не жалею, что за ними мои пропали, боле двух тыщ пропало. Все едино, получи я свои зажитые – пропали бы. Всем деньгам конец пришел, и тяжелой копеечке, и легкому рублику. Ну, нет и нет у них денег, когда ни попроси.
«А зачем тебе, – скажут, – няничка, деньги… у нас целей будут». А то и так: «Ты уж, нянь, потерпи, вот получим скоро куш, сразу и отдадим».
Три рубли барин сунет, скажет – «это не в счет», – и все. А это они от тетки наследства ждали, куш-то. А хорошие были господа, жалеющие, лучше и не найти. Уж так-то ласковы со мной были, так-то… Заболею я, барин мне и градусник сам поставит, и компрес, и чайку с лимончиком принесет. И барыня, ночью даже вставала, так жалела.
«Няничка, – скажет, – труженица ты наша… самое ты наше дорогое, простой ты народ, тульская ты, мозолистая…» – и руку мне все поглаживает, истинный Бог. А то скажет еще, прости ей, Господи: «Да нам на тебя молиться, как на икону, надо… ведь ты свята-я!..» – а у них и икон-то не висело, и никогда и не молились.
А мне и слушать страшно, и стыдно мне, слезы и потекут. Гляжу на иконку на свою и молюсь: прости ей, Господи, неразумие и меня не осуди. Грешница я, – бывало, сладенького чего возьмешь, без спросу. Конфекты у них не переводились, и пастила, и печенья всякие, и прянички, и орешки заливные, чего-чего только не было! В деньгах, уберег Господь, не грешила и Аксюшу, бывало, не раз ловила. Расте-рехи-и… – ведь это что ж такое! У барыни, где ни поройся, то красенькую, то трешницу найдешь, в книжку засунет и забудет… А у барина в шубу за подкладку заваливались, да па-чки! А то приезжает раз, а у них в ботике семь золотых звенят, в дырку из кармана проскочили. А сколько на улице осталось, и не усчитали: много, говорит, было, карман прорвали. Как в доме денег нет, пойду-пошарю – всегда найду. Барин, бывало, загорячится – «как так нет? где-нибудь должны быть… в диван не завалились ли, в шубе глядите, за подкладкой!» А сладенького брала, по слабости. Барин, как газетку читать, перед взаседанием своим, на турецкий диван завалится и коробками обкладется, и то из одной, то из другой не глядя в рот сует. А денег вот не водилось. Им большое наследство выходило, да оглашенные по Москве палить стали, а там и все деньги отменились. Мы тогда барина в Крым свезли, не до того уж им было. И я бы зажитые получила.
IV
Про Васеньку-то я вам… Соседи по именьицу, Ковровы. Стало быть Катичке счастье тут выходит, и в самый-то бы раз, потому совсем барину удавка пришла: затребовали пять тыщ за вексель, – какой-то он барышне по секрету обещался, а платить не из чего. А барыне сказал – старушку, мол, с Федором-лихачом они задавили и вексель дали внучке старушкиной, мировую сделать. А барыня всему верила. А какую уж там старушку, красная бы цена ей рублей двести, – с руками бы оторвали, небогатый кто, за старушку. Я Федора допытывала – смеялся. Барин ходит-насвистывает. Как свистит, я уж и знаю, – деньги нужны. Ну, перестал свистать… кто-то уж ему снабдил, а то и прахтикой постарался, извернулся. Барыня, помню, говорила все:
«Есть же мешки с деньгами, и не умеют распорядиться!» – завиствовала вам, барыня, что шибко богаты вы. Завиствовала. Бывало, скажет:
«И образования у купцов у этих на медный грош, а деньгами хоть подавись!»
Ссердцов, понятно… тревожилась семейным положением. А тут барин в бега ударился. Да нет, никуда не убегал, а по бегам стал ездить, деньги выигрывать. И вы, барыня, тогда ездили на бега глядеть. Ниночка еще песенку все нам пела – «лошадки скачут, а денежки плачут». Катичка ее обучила, наслушалась от папашеньки. Аграфена Семеновна, носастенькая, економка, бывало, скажет:
«Покатила наша барыня на бега, деньги лошадкам повезла».
Ну, как не помнить, Ниночка с Катичкой билетиками все играли, вы им из сумочки во-от какую кучку вытряхнете, пестренькие все, картоночки. Помню, приехали вы домой, веселые-развеселые, а снег валил, метель такая пошла, и уж темно стало, домой Катичку отводить пора.
А вы приехали, все-то в снегу, разрумянены, горячие, сбросили шубку соболью и давай по зале перед зеркалами танцевать, и пальчиками все прищелкивали. Как же-с, очень хорошо помню, в платье вы в самоновом были, рукава по сех пор, и такие вы счастливые были, барыня… и вдруг мне пять рублей золотой и подарили, ни за что! И Аграфене Семеновне золотой тоже выкинули, – сказали, что много наиграли. И красивые же вы были… прямо как купидомчик! Ну вот, вспомнили… засветились все, вовсе даже, барыня, помолодели! так и вспомнилось, какие вы красивые-то были. Да нет, вы и теперь красивые, барыня… да ведь у молоденьких своя красота, природная. И про билетики нам сказали, – каждый по большому золотому. Уж мы считали-считали, сколько же вы золотых-то наиграли… за две никак сотни золотых! А вы еще посмеялись: «ах, глупые-глупые, да это же все проиграно, а то бы я за картоночки денежки получила!» Теперь бы вот эти золотые… Да тогда разве думалось, что светопредставленье такое будет. Все в свое удовольствие, в себя жили, – вот и не думалось.
И барин в бега ударился, закружился. Его на прахтику требуют, а он по бегам гуляет. Барыня его как стыдила, ловить его ездила, бывало, для прахтики, – ни разу не поймала, увертливый очень был. И такой тоже развеселый, тоже Катичке картоночки все выкидывал. У нас тогда неприятность с барыниным братцем вышла. А как же, братец у них был, только незадачный вышел, по их сословию. Никому про него и не поминали, и к себе не пускали, от стыда. Аполитом его звали. Ну, не задался он у нас, у мамашеньки я тогда жила, его из имназии и выгнали, он и пошел на железную дорогу, в машинисты, и на портнишке женился. Черного уж стал звания, они и брезговали. Он придет, а барин в кабинет уйдут. И еще деньги он требовал, от мамаши наследство, а деньги-то они прожили, а он знал, что и на его долю было… тыщи четыре денег, записка у барыни была посмертная. Ну, и неприятности. Сперва-то он ничего, смирялся. Пришел к барыне крестить звать, она отговорилась. Обиделся он, шкурами их назвал да сгоряча вазу китайскую им и разбил, – барин его чуть палкой не ударил. Скажу им – «Аполитушка вам братец родной, хорошего тоже роду, гнушаетесь-то зачем? а бедных жалеете. И он небогатый, руки мозолистые, пожалели бы его!» Перед знакомыми стыдились, что на портнишке женился. С горя-то он, узнали мы потом, в сацалисты приписался, всех чтобы разорять, с досады. Ну, разбил он вазу, она его выгнала, да расстроилась – побежала проветриться на мороз. А вы тут и подкатили на серых. Саночки легонькие у вас были, а кучер во-какой широченный, – как саночки не раздавит, дивились мы. Барыню не застали, а мы с Аксюшей черепки от вазы подбирали, как вы вошли. Ну вот, вспомнили. Барин с вами и покатили на бега. Я еще в окошечко залюбовалась, какие вы шикарные были, шик! Барин в ту зиму впух совсем проигрался, все туда денежки отвозил, как в банки… столько он просадил, – никакой прахтики не хватало. Вот тетеньку они тогда и начали донимать.
V
Бывало, скажут: не миновать – Иверскую подымать. Я-то понимала, чего греховодники думают. У нас не то что Царицу Небесную никогда не приглашали, а и батюшку с крестом не принимали. Как у нас расстройка какая, барыня в спальню запрется-плачет, я возьму водицы святой и покроплю, помолюсь за них. Ну, будто они дети несмысленые, жалко их. Образов у нас в доме не было, барыня не желала, по своему образованию, и свое благословение, мамаша их замуж благословила, она на дно сундука упрятала. В детской только я уж настояла Катерины-мученицы повесить образок к кроватке, да в прихожей иконка висела, от старых жильцов осталась, вершочка два. А в темненькой у меня и лампадочка теплилась, Никола-Угодник у меня висел, в дорогу-то захватила, и еще Казанская-Матушка. А у них, чисто как у татаров, паутина одна в углах, боле ничего. Да, насмех будто, барин статуя голого купил, «Винерка» называется, в передний угол в зале поставил, под филоденры, – вот и молись. И что я вам, барыня, скажу… – с чего-то нас пауки одолели! Ну, одолели и одолели, сил нет. Навелось паука, так и распостраняется. А чистоту строго наблюдали. Только обмела – опять паутина и паутина. Я уж барыне говорила:
«Смотрите, барыня, паука у нас сила несусветная… не к добру это».
Дернулась она, да с сердцем на меня так:
«Что ты мелешь? почему – не к добру?!.» – а затревожилась.
«К пустоте, – говорю, – пауки одолевают… думатся так, по-деревенски».
«А, глупости… любишь всегда тревожить!»
А я сколько примечала, про паука-то, что к пустоте. Ну, нехорошо и нехорошо у нас, так-то нехорошо-невесело… ну, вот чуется мне пустота-глухота, чисто сарай. Барыня и давай зерькала оглядывать, хорошо ли привязаны. Ужас, как зеркалов боялись, как бы не разбилось.
За тетеньку они, Иверскую-то подымать: тетеньку в гости звать, хорошенечко засластить. Привезут в карете, давай угощать-улащивать:
«Ах, тетечка… ах, милая… совсем-то вы нас забыли, и как вам, тетечка золотая, не стыдно… а мыто скучаем, а мы-то для вас любимого пирожка со сливками, да рябчиков с мадерцовым совусом, и грушки душестые, по зубкам вам… а Катюньчик без вас жить не может…»
Так она и растает. И новую рояль Катюньчику, и на музыканта ей, и выгрышный билет ей… А как проигрался на бегах барин, они и подняли тетушку, всурьез уж. А она на ладан уж дышала, чуть жива, и палец все сосала, как малоумная. После угощенья барин и бух перед ней на коленки. Упал и зарыдал. Уж так-то возрыдал, и ручки ей целовать. А он умел зарыдать, и слезы потекут, исхитрялся, от чувства так. Да я-то уж знаю, барыня, как они исхитрялись… И это у них сговорено так, с Глафирой Алексеевной. И глядеть-то, бывало, надоест, как они исхитряются. Как же не замечать-то, на моих глазах все… А гостей приглашать! спору сколько, будто дом покупать сбираются: того не надо, какой от него прок, а эта прахтику может дать, обязательно надо завлецать… И место кому за столом какое – ну, все прикинут, чисто шелками вышьют. За глаза и ругнут, а зарятся. Фабрикантшу одну сколько годов ловили… только поймали, она и помри. Самую эту, Лопухову, доктору своему сто тыщ отказала, как барыня жалела!
Ну, упал-зарыдал, тетушка так и затрепыхалась, заквохтала, кудри ему давай ерошить, в глаза глядеть…
«Ай, что такое, не пугай, Костинька… или опять накуролесил?..»
А она часто мирила их. А он рыдает!..
«Ах, у Глирочки чахотка в градусе, доктора на горы в заграницу посылают, а у нас нужда вопиющая, бумаги потеряли… поглядите на эту тень!..»
А барыня у притолоки стоит, бе-элая, напудрена, и в платочек покашливает. А тетенька слепая, за рукой не видит…