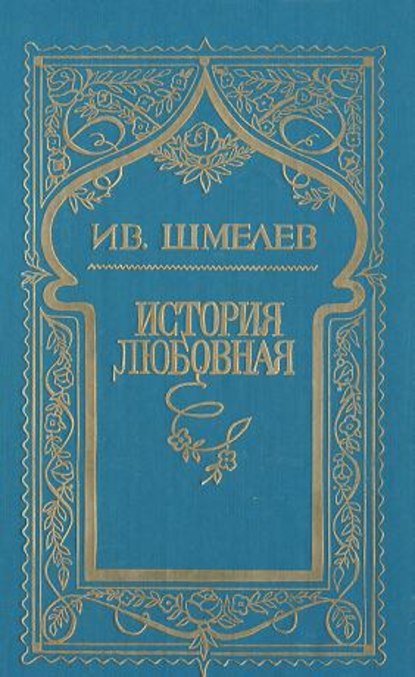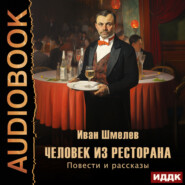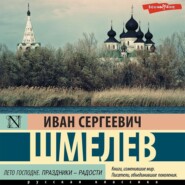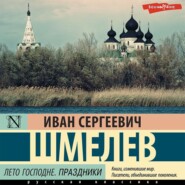По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
История любовная
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Миленький, не надо…а то уйду… И опустила руки.
– Паша…
– Ну что?…
Я стал целовать ей руки. Она мотнулась.
– Что вы со мною делаете… не надо… Она обняла меня за шею и крепко поцеловала в губы.
– Нет, будемте только целоваться… милый… первенький мой, хорошенький, чистенький… Никого не любил, правда? Никого, я знаю… мне тетя Маша говорила… дестенник он… мальчик…
– А ты, Паша?… – спросил я ее, целуя.
– Вот побожиться, вот… твоя буду… только… все равно, твоя буду… жениться тебе на мне нельзя, а… твоя буду…
Я молил ее, не зная о чем:
– Паша!…
Она вскочила и затрясла руками.
– Тебе учиться надо… на душе грех будет… Пойду вниз ляжу.
– Ну, посиди немножко… Я тебя не пущу, Паша… Я коснулся пуговки на кофте.
– Ну, не на-до… – шептала она стыдливо, ежась.
– Я хочу видеть, Паша… – шептал я, бредил.
– Ну, видишь… – сказала она нежно, робко. – Девочка я совсем…
И она быстро запахнулась.
– Нет, не дамся… нет, ни за что!., тебе грех будет, и мне грех… учиться тебе… еще провалишься из-за меня!… Ложитесь спать лучше, не спали… завтра в гимназию вам… Ах, миленький!…
Она меня чуть не задушила. Я слышал, как побежала она по лестнице.
Ночь прошла для меня в кошмаре.
XXXIX
Паша бежала от кого-то, а я спасал. В дверь кто-то ломился, страшный… – и я проснулся в оцепенении. На улице свистели, топотали. Орали: «Держи!., держи-и!…» «Неужто опять убили?! – в страхе подумал я. – Кучер убил… Пашу! Господи, Пашечку убили!…»
«Она вышла, а он подстерег и стукнул…? мог задушить, он сильный… и грозился! И это его ловят!…»
И на дворе кричали, летели по камням в опорках.
– Господи-батюшки… – услыхал я пронзительный голос скорнячихи, – да когда ж это кончится-то?… Поймали, что ли?…
– Поймаешь его!… Он теперь по-кажет!… Тут бы его перехватить бы надо, да Гришка, пьяный черт, растопырил руки… он его рраз, – и сшиб! Как черт, здоровый!… Это уж как пойдет… не дай Бог. Стоит против больницы, а оттуда сдерживают, дворники набегли…
– Я его голой рукой возьму!… – услыхал я Степанов голос. – Я умею!
«Нет, не кучер! Пашу не убили, милую ласточку!…» – нежно подумал я и перекрестился.
– Хоть бы скорей его приструнили, чумового!… «Ка-рих?! – блеснуло мне. – Карих сошел с ума, и его теперь ловят… он сбесился!…»
На улице орали. Донесло издалека рев… Бык?! Убежал черный бык, тот самый)…
Я оделся и кинулся в зал, к окнам. Опять все проснулись и смотрели. Паша смотрела в мое окошко. Лицо ее было рядом, она даже касалась волосами.
– Всю ночь не спала… Не спали?
– Не спал, о тебе все думал…
– А я… об одном миленьком дружке… – шепнула она сладко и потерлась щекой о курточку.
Можно было хоть целоваться: все глядели на улицу. Бежали с рынка. Городовой устанавливал «запруду»:
– Крепче держись, смотри! Как побежит, левым флангом заходи, к воротам его дави!… Ори-махай. Не пропущай на рынок!…
Высунувшись совсем в окошко, я увидел картину.
Поднявшееся солнце золотило уже деревья и заборы. И улица была, как золотая. И на золотой улице, на светло-золотой дали, стояло черное – пастухов бык Васюха. Он бешено ковырял рогами, крутил хвостом и подбрыкивал, словно в пляске. Сзаду его пугали, но он не подавался.
– Да что же они не напирают?! – кричали от «запруды». – Эй, нажима-ай там лише!… А-а, боятся, стариков нагнали…
– Я его один приведу, гляди! Какого испугались! Самого черта за рога приведу!… – крикнул кучер и вышел из «запруды».
– Вот дуролом-то наш, вызвался!… – тревожно шепнула Паша и потерлась. – Жизни своей не жалко. Дурак-то, пошел… глядите!…
И она высунулась до пояса в окошко.
– Да он тебя на рога посодит!… – крикнула она вдогонку. Степан посмотрел на окна, заметил Пашу.
– Пойдем вместе, найдем двести!… – махнул он лихо. – Эх, молись за меня Богу, на помогу!…
– Как же, ста-ла!… За дурака такого…
Пашу одернули: неприлично кричать из окон! Но она все забыла, высунулась с локтями на карнизик.
– Упадешь же, Паша!… – шептал я ей, придерживая ее за платье.
– Ах, да не мешайте вы!… – сказала она со злостью.
– Стой, не пугай там!… – кричал городовой к больнице, грозя «селедкой». – Степан один желает!…
Все так и зашумели. Булочник закричал:
– Паша…
– Ну что?…
Я стал целовать ей руки. Она мотнулась.
– Что вы со мною делаете… не надо… Она обняла меня за шею и крепко поцеловала в губы.
– Нет, будемте только целоваться… милый… первенький мой, хорошенький, чистенький… Никого не любил, правда? Никого, я знаю… мне тетя Маша говорила… дестенник он… мальчик…
– А ты, Паша?… – спросил я ее, целуя.
– Вот побожиться, вот… твоя буду… только… все равно, твоя буду… жениться тебе на мне нельзя, а… твоя буду…
Я молил ее, не зная о чем:
– Паша!…
Она вскочила и затрясла руками.
– Тебе учиться надо… на душе грех будет… Пойду вниз ляжу.
– Ну, посиди немножко… Я тебя не пущу, Паша… Я коснулся пуговки на кофте.
– Ну, не на-до… – шептала она стыдливо, ежась.
– Я хочу видеть, Паша… – шептал я, бредил.
– Ну, видишь… – сказала она нежно, робко. – Девочка я совсем…
И она быстро запахнулась.
– Нет, не дамся… нет, ни за что!., тебе грех будет, и мне грех… учиться тебе… еще провалишься из-за меня!… Ложитесь спать лучше, не спали… завтра в гимназию вам… Ах, миленький!…
Она меня чуть не задушила. Я слышал, как побежала она по лестнице.
Ночь прошла для меня в кошмаре.
XXXIX
Паша бежала от кого-то, а я спасал. В дверь кто-то ломился, страшный… – и я проснулся в оцепенении. На улице свистели, топотали. Орали: «Держи!., держи-и!…» «Неужто опять убили?! – в страхе подумал я. – Кучер убил… Пашу! Господи, Пашечку убили!…»
«Она вышла, а он подстерег и стукнул…? мог задушить, он сильный… и грозился! И это его ловят!…»
И на дворе кричали, летели по камням в опорках.
– Господи-батюшки… – услыхал я пронзительный голос скорнячихи, – да когда ж это кончится-то?… Поймали, что ли?…
– Поймаешь его!… Он теперь по-кажет!… Тут бы его перехватить бы надо, да Гришка, пьяный черт, растопырил руки… он его рраз, – и сшиб! Как черт, здоровый!… Это уж как пойдет… не дай Бог. Стоит против больницы, а оттуда сдерживают, дворники набегли…
– Я его голой рукой возьму!… – услыхал я Степанов голос. – Я умею!
«Нет, не кучер! Пашу не убили, милую ласточку!…» – нежно подумал я и перекрестился.
– Хоть бы скорей его приструнили, чумового!… «Ка-рих?! – блеснуло мне. – Карих сошел с ума, и его теперь ловят… он сбесился!…»
На улице орали. Донесло издалека рев… Бык?! Убежал черный бык, тот самый)…
Я оделся и кинулся в зал, к окнам. Опять все проснулись и смотрели. Паша смотрела в мое окошко. Лицо ее было рядом, она даже касалась волосами.
– Всю ночь не спала… Не спали?
– Не спал, о тебе все думал…
– А я… об одном миленьком дружке… – шепнула она сладко и потерлась щекой о курточку.
Можно было хоть целоваться: все глядели на улицу. Бежали с рынка. Городовой устанавливал «запруду»:
– Крепче держись, смотри! Как побежит, левым флангом заходи, к воротам его дави!… Ори-махай. Не пропущай на рынок!…
Высунувшись совсем в окошко, я увидел картину.
Поднявшееся солнце золотило уже деревья и заборы. И улица была, как золотая. И на золотой улице, на светло-золотой дали, стояло черное – пастухов бык Васюха. Он бешено ковырял рогами, крутил хвостом и подбрыкивал, словно в пляске. Сзаду его пугали, но он не подавался.
– Да что же они не напирают?! – кричали от «запруды». – Эй, нажима-ай там лише!… А-а, боятся, стариков нагнали…
– Я его один приведу, гляди! Какого испугались! Самого черта за рога приведу!… – крикнул кучер и вышел из «запруды».
– Вот дуролом-то наш, вызвался!… – тревожно шепнула Паша и потерлась. – Жизни своей не жалко. Дурак-то, пошел… глядите!…
И она высунулась до пояса в окошко.
– Да он тебя на рога посодит!… – крикнула она вдогонку. Степан посмотрел на окна, заметил Пашу.
– Пойдем вместе, найдем двести!… – махнул он лихо. – Эх, молись за меня Богу, на помогу!…
– Как же, ста-ла!… За дурака такого…
Пашу одернули: неприлично кричать из окон! Но она все забыла, высунулась с локтями на карнизик.
– Упадешь же, Паша!… – шептал я ей, придерживая ее за платье.
– Ах, да не мешайте вы!… – сказала она со злостью.
– Стой, не пугай там!… – кричал городовой к больнице, грозя «селедкой». – Степан один желает!…
Все так и зашумели. Булочник закричал: