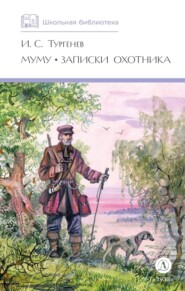По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рудин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да; это у меня уж так заведено. Кстати, позвольте спросить, ведь у вас, кажется, все мужики на оброке?
– Точно так.
– И вы сами хлопочете о размежевании? Это похвально.
Лежнев помолчал.
– Вот я и явился для личного свидания, – проговорил он.
Дарья Михайловна усмехнулась.
– Вижу, что явились. Вы говорите это таким тоном… Вам, должно быть, очень не хотелось ко мне ехать.
– Я никуда не езжу, – возразил флегматически Лежнев.
– Никуда? А к Александре Павловне вы ездите?
– Я с ее братом давно знаком.
– С ее братом! Впрочем, я никого не принуждаю… Но, извините меня, Михайло Михайлыч, я старше вас годами и могу вас пожурить: что вам за охота жить этаким бирюком? Или собственно мой дом вам не нравится? я вам не нравлюсь?
– Я вас не знаю, Дарья Михайловна, и потому вы мне не нравиться не можете. Дом у вас прекрасный; но, признаюсь вам откровенно, я не люблю стеснять себя. У меня и фрака порядочного нет; перчаток нет, да я и не принадлежу к вашему кругу.
– По рождению, по воспитанию вы принадлежите к нему, Михайло Михайлыч! vous ?tes des n?tres.[21 - вы нашего круга (фр.).]
– Рождение и воспитание в сторону, Дарья Михайловна! Дело не в том…
– Человек должен жить с людьми, Михайло Михайлыч! Что за охота сидеть, как Диоген в бочке?
– Во-первых, ему там было очень хорошо; а во-вторых, почему вы знаете, что я не с людьми живу?
Дарья Михайловна закусила губы.
– Это другое дело! Мне остается только сожалеть о том, что я не удостоилась попасть в число людей, с которыми вы знаетесь.
– Мосьё Лежнев, – вмешался Рудин, – кажется, преувеличивает весьма похвальное чувство – любовь к свободе.
Лежнев ничего не ответил и только взглянул на Рудина. Наступило небольшое молчание.
– Итак-с, – начал Лежнев, поднимаясь, – я могу считать наше дело поконченным и сказать вашему управляющему, чтобы он прислал ко мне бумаги.
– Можете… хотя, признаться, вы так нелюбезны… мне бы следовало отказать вам.
– Да ведь это размежевание гораздо выгоднее для вас, чем для меня.
Дарья Михайловна пожала плечами.
– Вы не хотите даже позавтракать у меня? – спросила она.
– Покорно вас благодарю: я никогда не завтракаю, да и тороплюсь домой.
Дарья Михайловна встала.
– Я вас не удерживаю, – промолвила она, подходя к окну, – не смею вас удерживать.
Лежнев начал раскланиваться.
– Прощайте, мосьё Лежнев! Извините, что обеспокоила вас.
– Ничего, помилуйте, – возразил Лежнев и вышел.
– Каков? – спросила Дарья Михайловна у Рудина. – Я слыхала про него, что он чудак; но ведь уж это из рук вон!
– Он страдает той же болезнью, как и Пигасов, – проговорил Рудин, – желаньем быть оригинальным. Тот прикидывается Мефистофелем, этот – циником. Во всем этом много эгоизма, много самолюбия и мало истины, мало любви. Ведь это тоже своего рода расчет: надел на себя человек маску равнодушия и лени, авось, мол, кто-нибудь подумает: вот человек, сколько талантов в себе погубил! А поглядеть попристальнее – и талантов-то в нем никаких нет.
– Et de deux![22 - Вот и второй! (фр.)] – промолвила Дарья Михайловна. – Вы ужасный человек на определения. От вас не скроешься.
– Вы думаете? – промолвил Рудин. – Впрочем, – продолжал он, – по-настоящему, мне бы не следовало говорить о Лежневе; я его любил, любил, как друга… но потом, вследствие различных недоразумений…
– Вы рассорились?
– Нет. Но мы расстались, и расстались, кажется, навсегда.
– То-то, я заметила, вы во все время его посещения были как будто не по себе… Однако я весьма вам благодарна за сегодняшнее утро. Я чрезвычайно приятно провела время. Но надо же и честь знать. Отпускаю вас до завтрака, а сама иду заниматься делами. Мой секретарь, вы его видели, – Constantin, c'est lui qui est mon secrеtaire,[23 - Константин, ведь это мой секретарь (фр.).] – должно быть, уже ждет меня. Рекомендую его вам: он прекрасный, преуслужливый молодой человек и в совершенном восторге от вас. До свидания, cher[24 - дорогой (фр.).] Дмитрий Николаич! Как я благодарна барону за то, что он познакомил меня с вами!
И Дарья Михайловна протянула Рудину руку. Он сперва пожал ее, потом поднес к губам и вышел в залу, а из залы на террасу. На террасе он встретил Наталью.
V
Дочь Дарьи Михайловны, Наталья Алексеевна, с первого взгляда могла не понравиться. Она еще не успела развиться, была худа, смугла, держалась немного сутуловато. Но черты ее лица были красивы и правильны, хотя слишком велики для семнадцатилетней девушки. Особенно хорош был ее чистый и ровный лоб над тонкими, как бы надломленными посередине бровями. Она говорила мало, слушала и глядела внимательно, почти пристально, – точно она себе во всем хотела дать отчет. Она часто оставалась неподвижной, опускала руки и задумывалась; на лице ее выражалась тогда внутренняя работа мыслей… Едва заметная улыбка появится вдруг на губах и скроется; большие темные глаза вдруг подымутся… «Qu’avezvous?»[25 - «Что с вами?» (фр.)] – спросит ее m-lle Boncourt и начнет бранить ее, говоря, что молодой девице неприлично задумываться и принимать рассеянный вид. Но Наталья не была рассеянна: напротив, она училась прилежно, читала и работала охотно. Она чувствовала глубоко и сильно, но тайно: она и в детстве редко плакала, а теперь даже вздыхала редко, и только бледнела слегка, когда что-нибудь ее огорчало. Мать ее считала добронравной, благоразумной девушкой, называла ее в шутку: mon honn?te homme de fille,[26 - мой честный малый – дочка (фр.).] но не была слишком высокого мнения об ее умственных способностях. «Наташа у меня, к счастью, холодна, – говаривала она, – не в меня… тем лучше. Она будет счастлива». Дарья Михайловна ошибалась. Впрочем, редкая мать понимает дочь свою.
Наталья любила Дарью Михайловну и не вполне ей доверяла.
– Тебе нечего от меня скрывать, – сказала ей однажды Дарья Михайловна, – а то бы ты скрытничала: ты таки себе на уме…
Наталья поглядела матери в лицо и подумала: «Для чего же не быть себе на уме?»
Когда Рудин встретил ее на террасе, она вместе с m-lle Boncourt шла в комнату, чтобы надеть шляпку и отправиться в сад. Утренние ее занятия уже кончились. Наталью перестали держать, как девочку, m-lle Boncourt давно уже не давала ей уроков из мифологии и географии; но Наталья должна была каждое утро читать исторические книги, путешествия и другие назидательные сочинения – при ней. Выбирала их Дарья Михайловна, будто бы придерживаясь особой, своей системы. На самом деле она просто передавала Наталье все, что ей присылал француз-книгопродавец из Петербурга, исключая, разумеется, романов Дюма-фиса[27 - Дюма-сына (Dumas-fils) (фр.).] и комп. Эти романы Дарья Михайловна читала сама. M-lle Boncourt особенно строго и кисло посматривала через очки свои, когда Наталья читала исторические книги: по понятиям старой француженки, вся история была наполнена непозволительными вещами, хотя она сама из великих мужей древности знала почему-то только одного Камбиза, а из новейших времен – Людовика XIV и Наполеона, которого терпеть не могла. Но Наталья читала и такие книги, существования которых m-lle Boncourt не подозревала: она знала наизусть всего Пушкина…
Наталья слегка покраснела при встрече с Рудиным.
– Вы идете гулять? – спросил он ее.
– Да. Мы идем в сад.
– Можно идти с вами?
Наталья взглянула на m-lle Boncourt.