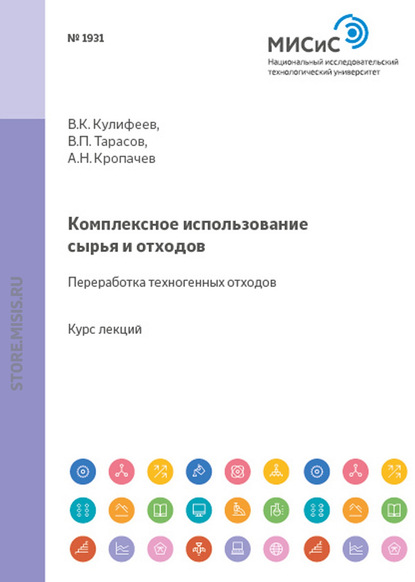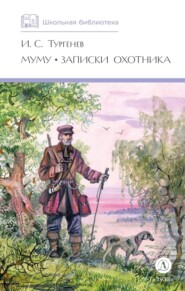По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Накануне
Автор
Год написания книги
1859
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
20
– Зайди ко мне на минутку, – сказал Берсеневу Шубин, как только тот простился с Анной Васильевной, – у меня есть кое-что тебе показать.
Берсенев отправился к нему во флигель. Его поразило множество студий, статуэток и бюстов, окутанных мокрыми тряпками и расставленных по всем уголкам комнаты.
– Да ты, я вижу, работаешь не на шутку, – заметил он Шубину.
– Что-нибудь надобно ж делать, – ответил тот. – Одно не везет, надо пробовать другое. Впрочем, я, как корсиканец, занимаюсь больше вендеттой, нежели чистым искусством. Trema, Bisanzia![21 - Трепещи, Византия! (ит.)]
– Я тебя не понимаю, – проговорил Берсенев.
– А вот погоди. Вот извольте поглядеть, любезный друг и благодетель, мою месть нумер первый.
Шубин раскутал одну фигуру, и Берсенев увидел отменно схожий, отличный бюст Инсарова. Черты лица были схвачены Шубиным верно до малейшей подробности, и выражение он им придал славное: честное, благородное и смелое.
Берсенев пришел в восторг.
– Да это просто прелесть! – воскликнул он. – Поздравляю тебя. Хоть на выставку! Почему ты называешь это великолепное произведение местью?
– А потому, сэр, что я намерен поднести это, как вы изволили выразиться, великолепное произведение Елене Николаевне в день ее именин. Понимаете вы сию аллегорию? Мы не слепые, мы видим, что около нас происходит, но мы джентльмены, милостивый государь, и мстим по-джентльменски.
– А вот, – прибавил Шубин, раскутывая другую фигурку, – так как художник, по новейшим эстетикам, пользуется завидным правом воплощать в себе всякие мерзости, возводя их в перл создания, то мы, при возведении сего перла, нумера второго, мстили уже вовсю не как джентльмены, а просто en canaille.[22 - Как каналья (фр.).]
Он ловко сдернул полотно, и взорам Берсенева предстала статуэтка, в дантановском вкусе, того же Инсарова. Злее и остроумнее невозможно было ничего придумать. Молодой болгар был представлен бараном, поднявшимся на задние ножки и склоняющим рога для удара. Тупая важность, задор, упрямство, неловкость, ограниченность так и отпечатались на физиономии «супруга овец тонкорунных», и между тем сходство было до того поразительно, несомненно, что Берсенев не мог не расхохотаться.
– Что? забавно? – промолвил Шубин, – узнал ироя? На выставку тоже советуешь послать? Это, братец ты мой, я сам себе в собственные именины подарю… Ваше высокоблагородие, позвольте выкинуть коленце!
И Шубин прыгнул раза три, ударяя себя сзади подошвами.
Берсенев поднял с полу полотно и забросил им статуэтку.
– Ох ты, великодушный, – начал Шубин, – кто, бишь, в истории считается особенно великодушным? Ну, все равно! А теперь, – продолжал он, торжественно и печально раскутывая третью, довольно большую массу глины, – ты узришь нечто, что докажет тебе смиренномудрие и прозорливость твоего друга. Ты убедишься в том, что он, опять-таки как истинный художник, чувствует потребность и пользу собственного заушения. Взирай!
Полотно взвилось, и Берсенев увидел две, рядом и близко поставленные, точно сросшиеся, головы… Он не тотчас понял, в чем дело, но, приглянувшись, узнал в одной из них Аннушку, в другой самого Шубина. Впрочем, это были скорее карикатуры, чем портреты. Аннушка была представлена красивою жирною девкой с низким лбом, заплывшими глазами и бойко вздернутым носом. Ее крупные губы нагло ухмылялись; все лицо выражало чувственность, беспечность и удаль, не без добродушия. Себя Шубин изобразил испитым, исхудалым жуиром, с ввалившимися щеками, с бессильно висящими косицами жидких волос, с бессмысленным выражением в погасших глазах, с заостренным, как у мертвеца, носом.
Берсенев отвернулся с отвращением.
– Какова двоешка, брат? – промолвил Шубин. – Не соблаговолишь ли сочинить приличную подпись? К первым двум штукам я уже подписи придумал. Под бюстом будет стоять: «Герой, намеревающийся спасти свою родину». Под статуэткой: «Берегитесь, колбасники!» А под этой штукой – как ты думаешь? – «Будущность художника Павла Яковлева Шубина…». Хорошо?
– Перестань, – возразил Берсенев. – Стоило терять время на такую… – Он не тотчас подобрал подходящее слово.
– Гадость, хочешь ты сказать? Нет, брат, извини, уж коли чему на выставку идти, так этой группе.
– Именно гадость, – повторил Берсенев. – Да и что за вздор? В тебе вовсе нет тех залогов подобного развития, которыми до сих пор, к несчастию, так обильно одарены наши артисты. Ты просто наклеветал на себя.
– Ты полагаешь? – мрачно проговорил Шубин. – Если во мне их нет и если они ко мне привьются, то в этом будет виновата… одна особа. Ты знаешь ли, – прибавил он, трагически нахмурив брови, – что я уже пробовал пить?
– Врешь?!
– Пробовал, ей-Богу, – возразил Шубин и вдруг осклабился и просветлел, – да невкусно, брат, в горло не лезет, и голова потом, как барабан. Сам великий Лущихин – Харлампий Лущихин, первая московская, а по другим, великороссийская воронка, объявил, что из меня проку не будет. Мне, по его словам, бутылка ничего не говорит.
Берсенев замахнулся было на группу, но Шубин остановил его.
– Полно, брат, не бей; это как урок годится, как пугало.
Берсенев засмеялся.
– В таком случае, пожалуй, пощажу твое пугало, – промолвил он, – и да здравствует вечное, чистое искусство!
– Да здравствует! – подхватил Шубин. – С ним и хорошее лучше и дурное не беда!
Приятели крепко пожали друг другу руки и разошлись.
21
Первым ощущением Елены, когда она проснулась, был радостный испуг. «Неужели? Неужели?» – спрашивала она себя, и сердце ее замирало от счастия. Воспоминания нахлынули на нее… она потонула в них. Потом опять ее осенила та блаженная, восторженная тишина. Но в течение утра Еленой понемногу овладело беспокойство, а в следующие дни ей стало и томно и скучно. Правда, она теперь знала, чего она хотела, но от этого ей не было легче. То незабвенное свидание выбросило ее навсегда из старой колеи: она уже не стояла в ней, она была далеко, а между тем кругом все совершалось обычным порядком, все шло своим чередом, как будто ничего не изменилось; прежняя жизнь по-прежнему двигалась, по-прежнему рассчитывая на участие и содействие Елены. Она пыталась начать письмо к Инсарову, но и это не удалось: слова выходили на бумаге не то мертвые, не то лживые. Дневник свой она покончила: она под последнею строкой провела большую черту. То было прошедшее, а она всеми помыслами своими, всем существом ушла в будущее. Ей было тяжело. Сидеть с матерью, ничего не подозревающей, выслушивать ее, отвечать ей, говорить с ней – казалось Елене чем-то преступным; она чувствовала в себе присутствие какой-то фальши; она возмущалась, хотя краснеть ей было не за что; не раз поднималось в ее душе почти непреодолимое желание высказать все без утайки, что бы там ни было потом. «Для чего, – думала она, – Дмитрий не тогда же, не из этой часовни увел меня, куда хотел? Не сказал ли он мне, что я его жена перед Богом? Зачем я здесь?» Она вдруг стала дичиться всех, даже Увара Ивановича, который более чем когда-либо недоумевал и играл перстами. Уже ни ласковым, ни милым, ни даже сном не казалось ей все окружающее: оно как кошмар давило ей грудь неподвижным, мертвенным бременем; оно как будто и упрекало ее, и негодовало, и знать про нее не хотело… Ты, мол, все-таки наша. Даже ее бедные питомцы, угнетенные птицы и звери, глядели на нее – по крайней мере так чудилось ей – недоверчиво и враждебно. Ей становилось совестно и стыдно своих чувств. «Ведь это все-таки мой дом, – думала она, – моя семья, моя родина…» – «Нет, это больше не твоя родина, не твоя семья», – твердил ей другой голос. Страх овладевал ею, и она досадовала на свое малодушие. Беда только начиналась, а уж она теряла терпение… То ли она обещала?
Не скоро она совладела с собою. Но прошла неделя, другая. Елена немного успокоилась и привыкла к новому своему положению. Она написала две маленькие записочки Инсарову и сама отнесла их на почту – она бы ни за что, и из стыдливости и из гордости, не решилась довериться горничной. Она начинала уже поджидать его самого… Но вместо его, в одно прекрасное утро, прибыл Николай Артемьевич.
22
Еще никто в доме отставного гвардии поручика Стахова не видал его таким кислым и в то же время таким самоуверенным и важным, как в тот день. Он вошел в гостиную в пальто и шляпе – вошел медленно, широко расставляя ноги и стуча каблуками; приблизился к зеркалу и долго смотрел на себя, с спокойною строгостью покачивая головой и кусая губы. Анна Васильевна встретила его с наружным волнением и тайною радостью (она его иначе никогда не встречала); он даже шляпы не снял, не поздоровался с нею и молча дал Елене поцеловать свою замшевую перчатку. Анна Васильевна стала его расспрашивать о курсе лечения – он ничего не отвечал ей; явился Увар Иванович – он взглянул на него и сказал: «Ба!» С Уваром Ивановичем он вообще обходился холодно и свысока, хотя признавал в нем «следы настоящей стаховской крови». Известно, что почти все русские дворянские фамилии убеждены в существовании исключительных, породистых особенностей, им одним свойственных: нам не однажды довелось слышать толки «между своими» о «подсаласкинских» носах и «перепреевских» затылках. Зоя вошла и присела перед Николаем Артемьевичем. Он крякнул, опустился в кресла, потребовал себе кофею и только тогда снял шляпу. Ему принесли кофею; он выпил чашку и, посмотрев поочередно на всех, промолвил сквозь зубы: «Sortez, s'il vous plait»,[23 - Выйдите, пожалуйста (фр.).] – и, обратившись к жене, прибавил: «Et vous, madame, restez, je vous prie».[24 - А вы, сударыня, пожалуйста, останьтесь (фр.).]
Все вышли, кроме Анны Васильевны. У нее голова задрожала от волнения. Торжественность приемов Николая Артемьевича ее поразила. Она ожидала чего-то необыкновенного.
– Что такое! – воскликнула она, как только дверь затворилась.
Николай Артемьевич бросил равнодушный взгляд на Анну Васильевну.
– Ничего особенного, что это у вас за манера тотчас принимать вид какой-то жертвы? – начал он, безо всякой нужды опуская углы губ на каждом слове. – Я только хотел вас предуведомить, что у нас сегодня будет обедать новый гость.
– Кто такой?
– Курнатовский, Егор Андреевич. Вы его не знаете. Обер-секретарь в сенате.
– Он будет сегодня у нас обедать?
– Да.
– И вы только для того, чтобы мне это сказать, велели всем выйти?
Николай Артемьевич снова бросил на Анну Васильевну взгляд, на этот раз уже иронический.
– Вас это удивляет? Погодите удивляться.
Он умолк. Анна Васильевна тоже помолчала немного.
– Я желала бы… – заговорила она.