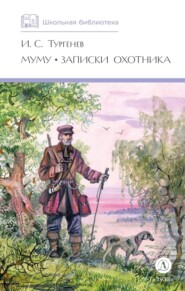По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Первая любовь (сборник)
Автор
Год написания книги
1872
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На берегах Рейна Ася вспоминает старинную немецкую легенду о Лорелее. «Говорят, она прежде всех топила, а как полюбила, сама бросилась в воду», – по-своему ее пересказывает Ася.
Настоящая любовь всего человека требует, полного само отвержения. Ася это почувствовала, предчувствовала, Зинаида, героиня «Первой любви», изведала, испытала. Асины слова про Лорелею она применительно к себе переиначивает: «Нет; я таких любить не могу, на которых мне приходится глядеть сверху вниз. Мне надобно такого, который сам бы меня сломил…»
Умница Лушин («Первая любовь»), присматриваясь к переменившейся Зинаиде, вдруг прозревает:
«А я, дурак, думал, что она кокетка! Видно, жертвовать собою сладко – для иных». «Для иных» – для любящих.
«Такой», который сам Зинаиду сломил, – отец героя, человек изысканно-спокойный, самоуверенный, самовла стный, – поучает юношу: «Сам бери, что можешь, а в руки не давайся; самому себе принадлежать – в этом вся штука жизни. ‹…› Умей хотеть – и будешь свободным, и командо вать будешь». Не пустые слова – жизненная позиция, и в подтверждение, что слова не пустые, – удар хлыстом по руке любящей женщины. Но любовь и его победила, «такого», самоуверенного, самовластного, согнула, сломи ла, заставила просить и плакать, его, привыкшего командовать, почитавшего власть выше свободы. «Сын мой… бойся этого счастья…» – последнее его поучение и послед ние его слова.
«В любви нет равенства… Нет, в любви одно лицо – раб, а другое – властелин», – твердит, умирая от любви, герой тургеневской повести «Переписка», появившейся прежде «Аси» и «Первой любви».
Неправда! Любовь не рабство, а счастье, и высшее в любви – не командовать, не властелином быть, не брать, а отдавать: себя, все в себе лучшее, все дорогое, что прежде только тебе принадлежало. Любовь настоящая (а ненастоящая – так и не любовь!) – это отдавать. Такая любовь возвышает и очищает: человек вырывается, выбира ется из интересов и потребностей собственного «я», а жить для другого, для других – высокое назначение человека на земле. «Если я не за себя, то кто же за меня, – говорил древний мудрец, – но если я только за себя, то зачем я». От любви к другому человеку неизмеримо ближе до любви к другим людям, к человечеству, чем от любви к себе.
«Я начал представлять себе, как я буду спасать ее из рук неприятелей, как я, весь облитый кровью, исторгну ее из темницы, как умру у ее ног», – мечтает герой «Первой любви». Какие прекрасные, возвышенные мечтания, и есть ли кто-нибудь, кто испытал это высокое чувство и не мечтал точно так же: спасти, умереть, пострадать, непременно собой жертвуя для счастья другого.
И Зинаида, когда ждет тревожно и нетерпеливо того, кто ее «сломит», именно об этом думает – о счастье любить, отдавать себя, жить для другого. Мало радости «стукать людей друг о друга» (так она именует свое кокетство), даже если эти люди все наперебой в тебя влюблены. В старинных играх часто попадался вопрос: «Что лучше – любить или быть любимым?» Как наивно! Да когда ты только любим, ты как бы лицо «неодушевлен ное»; когда любишь – ты в себе целый мир открываешь, мир изменяющийся, стремящийся к совершенству.
Конец повести написан сжато; о судьбе отца – несколько строчек; но отец смятенный, страдающий – выше, лучше, даже значительнее прежнего, уверенного в себе и презирающего остальных.
Вся повесть, почти до самой развязки, каждая подробность ее – точно в предгрозье – проникнута, напо ена, насыщена ожиданием, необходимостью любви – первой любви, «радостным чувством молодой, закипающей жизни».
И снова Тургенев ищет развязку, формулу происходя щего, ключ к нему – у Пушкина. В «Асе», мы помним, возникает «Евгений Онегин», здесь – «На холмах Грузии…». «„Что не любить оно не может“, – повторила Зинаи да. – ‹…› И хотело бы, да не может!» Ceрдце не может не любить, должно любить, потому что любовь наполняет сердце жизнью, заставляет его биться, гореть, страдать, радоваться, делает сердце сердцем в том высочайшем смысле, который вложил человек в это понятие.
Мы не должны забывать, что действие повести разворачивается летом 1833 года. Пушкин жив еще, еще не было второй Болдинской осени, до нее рукой подать – несколько недель осталось. Когда герой повести читает Зинаиде «На холмах Грузии…» (стихотворение 1829 г., можно сказать новое), еще не написаны ни «Медный всадник», ни «Сказка о рыбаке и рыбке», ни «Пиковая дама», ни «Капитанская дочка».
Точное ощущение времени для первых читателей «Первой любви» немало значило, но и нам, сегодняшним читателям, оно поможет полнее почувствовать атмосферу повести. Для самого же Тургенева, у которого в «Первой любви» «описано действительное происшествие без малей шей прикраски, и при перечитывании действующие лица встают как живые», для Тургенева и время действия, и упоминание Пушкина наполнено было, конечно, особым смыслом.
«Два месяца спустя я поступил в университет», – читаем на последних страницах повести. Два месяца спустя, осенью 1833 года, Иван Тургенев поступил в Московский университет, а в следующем, 1834 году перевелся в Петербургский, сделался учеником Плетнева, профессора и поэта, друга Пушкина. Однажды в передней у профессора столкнулся Тургенев с надевшим уже шинель и шляпу человеком; заканчивая беседу с хозяином, человек отпустил колкую шутку, сверкнул в улыбке ослепительно белыми зубами и необыкновенно живыми глазами и вышел; тут только узнал Тургенев, что видел великого нашего поэта. Еще раз встретил он Пушкина за несколько дней до его смерти на утреннем концерте в зале Энгельгардт: поэт «стоял у двери, опираясь на косяк, и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом. Помню его смуглое небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых крупных зубов, висячие бакенбарды, темные желчные глаза под высоким лбом почти без бровей – и кудрявые волосы… Он на меня бросил беглый взор; бесцеремонное внимание, с которым я уставился на него, произвело, должно быть, на него впечатление неприятное… Несколько дней спустя я видел его лежавшим в гробу…».
Воспоминания дорогие, Тургенева не оставлявшие, и конечно же при перечитывании повести, когда действую щие лица вставали перед ним как живые, Пушкин не одной лишь строчкой стиха оживал в его воображении…
Коли уж зашла речь о времени действия повести, мы, нынешние читатели, увлеченные историей первой любви, не должны забывать и об иных того времени приметах, для писателя и первых его читателей очевидных и немаловаж ных.
Писарев, разбирая «Асю», объясняет с задором: господин Н. Н. смущен тем, что затруднится отвечать на вопрос какого-нибудь великосветского хлыща: «Как ваша супруга урожденная?» То, что для нас, читателей нынешних, безразлично, что почти не привлекает нашего внимания, ставило первых читателей Тургенева, как и героев его, перед необходимостью преодолеть привычку, пренебречь условностями, проявить известную смелость духа; знакомясь с повестью, они, первые читатели, эту «неправильно начатую жизнь» Аси цепко держали в памя ти, и значила она для них куда больше, чем для нас.
Но ведь и о натуре Зинаиды размышляя, автор особо отмечает (и читателей просит не забыть) неправильное воспитание, странные знакомства, бедность. Мы, как и семейство героя повести, еще не осведомлены о Засекиных – и вот, пожалуйте, первая характеристика устами почтительно подающего блюдо дворецкого (на матушкино: «Должно быть, бедная какая-нибудь»): «На трех извозчиках приехали-с… своего экипажа не имеют-с, и мебель самая пустая». И для нас – а для первых читателей тем более – примета зримая, а с нею и атмосфера времени. Как и беглое вроде бы замечание: отец холодным взглядом прекратил этот неуместный, их уровня недостойный разговор.
«…Нанятый ею [Засекиной] флигелек был так ветх, и мал, и низок, что люди, хотя несколько зажиточные, не согласились бы по селиться в нем», – поясняет главный герой повести, рассказчик.
Здесь весьма кстати поразмыслить не только о времени, но, пусть бегло, и об удивительно точно «спланированном» месте действия – «пространстве повести». Ну хотя бы о большом барском доме с колоннами, занятом семейством героя, и двух низеньких флигельках по обе стороны.
В одном, правом, поселилась Зинаида с матерью. «…Они люди не comme il faut… и тебе нечего к ним таскаться…» – обозначает расстояние между домом и флигелем матушка героя.
Между тем другой флигелек, левый, будто отверженный, остается в стороне и от дома и от повествования, туда герою вход и подавно заказан. Но он заглядывает из любопытства: «…во флигеле налево помещалась крохотная фабрика дешевых обоев… Я не раз хаживал туда смотреть, как десяток худых и взъерошенных мальчишек в засаленных халатах и с испитыми лицами то и дело вскакивали на деревянные рычаги, нажимавшие четырехугольные обрубки пресса, и таким образом тяжестью своих тщедушных тел вытискивали пестрые узоры обоев». И только. Ну, само собой, что им, этим измученным мальчишкам, до господских страстей – между левым флигелем и остальным домом пропасть непреодолимая, но как-то невозможно уже, читая повесть, худеньких мальчиков позабыть. То есть, кажется, и не думаешь о них, но с первым коротким своим появлением растворились они в воздухе повести, сделались его частицей, и с каждым вдохом, с каждым глотком этого воздуха о себе напоминают. И еще напоминают о том, что пространство повести не замкнуто. Напоминают, к примеру, о прекрасных мальчиках, собравшихся у ночного костра в «Бежином луге», – ведь иные из них тоже на бумажной фабрике работали, – об их прекрасных думах, чувствованиях, мечтах…
Тургенева упрекали за то, что взял сюжетом «Первой любви» подлинные события из жизни своей семьи; он упреки выслушивал и принимал, но признался однажды, что при всем том никак не желал бы, чтобы повести не существовало, – ему было необходимо написать ее.
Первая любовь обернулась труднейшим испытанием для героя, но он, по его признанию, почел бы себя несчастливым, если бы не встретился с ней.
Человеку дана лишь одна, собственная его жизнь, и лишь испытания, выпавшие ему самому на долю, открывают перед ним мир во всей его глубине и многозначности, помогают понять сущность добра и красоты, идти вперед.
«Он не употреблял свой талант (уменье хорошо изображать) на то, чтобы скрывать свою душу, как это делали и делают, а на то, чтобы всю ее выворотить наружу», – подводил Лев Николаевич Толстой итог жизни и творчества Тургенева в письме к А. Н. Папину от 10 января 1884 г. И про должал: «и в жизни, и в писаниях» им двигала «вера в добро – любовь и самоотвержение…».
В. И. Порудоминский
Ася
I
Мне было тогда лет двадцать пять, – начал Н. Н., – дела давно минувших дней, как видите. Я только что вырвался на волю и уехал за границу, не для того, чтобы «окончить мое воспитание», как говаривалось тогда, а просто мне захотелось посмотреть на мир Божий. Я был здоров, молод, весел, деньги у меня не переводились, заботы еще не успели завестись – я жил без оглядки, делал что хотел, процветал, одним словом. Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение и процветать ему долго нельзя. Молодость ест пряники золоченые, да и думает, что это-то и есть хлеб насущный; а придет время – и хлебца напросишься. Но толковать об этом не для чего.
Я путешествовал без всякой цели, без плана; останавливался везде, где мне нравилось, и отправлялся тотчас далее, как только чувствовал желание видеть новые лица – именно лица. Меня занимали исключительно одни люди; я ненавидел любопытные памятники, замечательные собрания, один вид лон-лакея[1 - Лон-лакей (нем. Lohn Lakai) – наемный лакей; здесь: проводник.] возбуждал во мне ощущение тоски и злобы; я чуть с ума не сошел в дрезденском «Грюне Гевёлбе»[2 - Грюне Гевёлбе (дословно: «зеленый свод», нем.) – коллекция ювелирных изделий и драгоценных камней в Дрезденском замке-резиденции.]. Природа действовала на меня чрезвычайно, но я не любил так называемых ее красот, необыкновенных гор, утесов, водопадов; я не любил, чтобы она навязывалась мне, чтобы она мне мешала. Зато лица, живые человеческие лица – речи людей, их движения, смех – вот без чего я обойтись не мог. В толпе мне было всегда особенно легко и отрадно; мне было весело идти, куда шли другие, кричать, когда другие кричали, и в то же время я любил смотреть, как эти другие кричат. Меня забавляло наблюдать людей… да я даже не наблюдал их – я их рассматривал с каким-то радостным и ненасытным любопытством. Но я опять сбиваюсь в сторону.
Итак, лет двадцать тому назад я проживал в немецком небольшом городке З., на левом берегу Рейна. Я искал уединения: я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой, с которой познакомился на водах. Она была очень хороша собой и умна, кокетничала со всеми – и со мною, грешным, – сперва даже поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому баварскому лейтенанту. Признаться сказать, рана моего сердца не очень была глубока; но я почел долгом предаться на некоторое время печали и одиночеству – чем молодость не тешится! – и поселился в З.
Городок этот мне понравился своим местоположением у подошвы двух высоких холмов, своими дряхлыми стенами и башнями, вековыми липами, крутым мостом над светлой речкой, впадавшей в Рейн, – а главное, своим хорошим вином. По его узким улицам гуляли вечером, тотчас после захождения солнца (дело было в июне), прехорошенькие белокурые немочки и, встретясь с иностранцем, произносили приятным голоском: «Guten Abend»[3 - Добрый вечер! (нем.)] – а некоторые из них не уходили даже и тогда, когда луна поднималась из-за острых крыш стареньких домов и мелкие каменья мостовой четко рисовались в ее неподвижных лучах. Я любил бродить тогда по городу; луна, казалось, пристально глядела на него с чистого неба; и город чувствовал этот взгляд и стоял чутко и мирно, весь облитый ее светом, этим безмятежным и в то же время тихо душу волнующим светом. Петух на высокой готической колокольне блестел бледным золотом; таким же золотом переливались струйки по черному глянцу речки; тоненькие свечки (немец бережлив!) скромно теплились в узких окнах под грифельными кровлями; виноградные лозы таинственно высовывали свои завитые усики из-за каменных оград; что-то пробегало в тени около старинного колодца на трехугольной площади, внезапно раздавался сонливый свисток ночного сторожа, добродушная собака ворчала вполголоса, а воздух так и ластился к лицу, и липы пахли так сладко, что грудь поневоле все глубже и глубже дышала, и слово: «Гретхен» – не то восклицание, не то вопрос – так и просилось на уста.
Городок З. лежит в двух верстах от Рейна. Я часто ходил смотреть на величавую реку и, не без некоторого напряжения мечтая о коварной вдове, просиживал долгие часы на каменной скамье под одиноким огромным ясенем. Маленькая статуя Мадонны с почти детским лицом и красным сердцем на груди, пронзенным мечами, печально выглядывала из его ветвей. На противоположном берегу находился городок Л., немного побольше того, в котором я поселился. Однажды вечером сидел я на своей любимой скамье и глядел то на реку, то на небо, то на виноградники. Передо мною белоголовые мальчишки карабкались по бокам лодки, вытащенной на берег и опрокинутой насмоленным брюхом кверху. Кораблики тихо бежали на слабо надувшихся парусах; зеленоватые волны скользили мимо, чуть-чуть вспухая и урча. Вдруг донеслись до меня звуки музыки; я прислушался. В городе Л. играли вальс; контрабас гудел отрывисто, скрипка неясно заливалась, флейта свистала бойко.
– Что это? – спросил я у подошедшего ко мне старика в плисовом жилете, синих чулках и башмаках с пряжками.
– Это, – отвечал он мне, предварительно передвинув мундштук своей трубки из одного угла губ в другой, – студенты приехали из Б. на коммерш.
«А посмотрю-ка я на этот коммерш, – подумал я, – кстати же я в Л. не бывал». Я отыскал перевозчика и отправился на другую сторону.
II
Может быть, не всякий знает, что такое коммерш. Это особенного рода торжественный пир, на который сходятся студенты одной земли, или братства (Landsmannschaft). Почти все участники в коммерше носят издавна установленный костюм немецких студентов: венгерки, большие сапоги и маленькие шапочки с околышами известных цветов. Собираются студенты обыкновенно к обеду под председательством сениора, то есть старшины, – и пируют до утра, пьют, поют песни, Landesvater[4 - Landesvater («отец земли», нем.) – старинная немецкая песня.], Gaudeamus[5 - Gaudeamus – («будем радоваться», лат.) – старинная студенческая песня-гимн на латинском языке.], курят, бранят филистеров[6 - Филистер – человек с узким, ограниченным умственным кругозором; обыватель.]; иногда они нанимают оркестр.
Такой точно коммерш происходил в г. Л. перед небольшой гостиницей под вывескою солнца, в саду, выходившем на улицу. Над самой гостиницей и над садом веяли флаги; студенты сидели за столами под обстриженными липками; огромный бульдог лежал под одним из столов; в стороне, в беседке из плюща, помещались музыканты и усердно играли, то и дело подкрепляя себя пивом. На улице, перед низкой оградой сада, собралось довольно много народа: добрые граждане городка Л. не хотели пропустить случая поглазеть на заезжих гостей. Я тоже вмешался в толпу зрителей. Мне было весело смотреть на лица студентов; их объятия, восклицания, невинное кокетничанье молодости, горящие взгляды, смех без причины – лучший смех на свете – все это радостное кипение жизни юной, свежей, этот порыв вперед – куда бы то ни было, лишь бы вперед, – это добродушное раздолье меня трогало и поджигало. «Уж не пойти ли к ним?» – спрашивал я себя.
– Ася, довольно тебе? – вдруг произнес за мною мужской голос по-русски.
– Подождем еще, – отвечал другой, женский голос на том же языке.
Я быстро обернулся… Взор мой упал на красивого молодого человека в фуражке и широкой куртке; он держал под руку девушку невысокого роста, в соломенной шляпе, закрывавшей всю верхнюю часть ее лица.
– Вы русские? – сорвалось у меня невольно с языка.
Молодой человек улыбнулся и промолвил:
– Да, русские.
– Я никак не ожидал… в таком захолустье… – начал было я.
– И мы не ожидали, – перебил он меня, – что ж, тем лучше. Позвольте рекомендоваться: меня зовут Гагиным, а вот это моя… – он запнулся на мгновенье, – моя сестра. А ваше имя позвольте узнать?
Я назвал себя, и мы разговорились. Я узнал, что Гагин, путешествуя, так же как я, для своего удовольствия, неделю тому назад заехал в городок Л. да и застрял в нем. Правду сказать, я неохотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издали по их походке, покрою платья, а главное, по выражению их лица. Самодовольное и презрительное, часто повелительное, оно вдруг сменялось выражением осторожности и робости… Человек внезапно настораживался весь, глаз беспокойно бегал… «Батюшки мои! не соврал ли я, не смеются ли надо мною?» – казалось, говорил этот уторопленный взгляд… Проходило мгновенье – и снова восстановлялось величие физиономии, изредка чередуясь с тупым недоуменьем. Да, я избегал русских, но Гагин мне понравился тотчас. Есть на свете такие счастливые лица: глядеть на них всякому любо, точно они греют вас или гладят. У Гагина было именно такое лицо, милое, ласковое, с большими мягкими глазами и мягкими курчавыми волосами. Говорил он так, что, даже не видя его лица, вы по одному звуку его голоса чувствовали, что он улыбается.
Настоящая любовь всего человека требует, полного само отвержения. Ася это почувствовала, предчувствовала, Зинаида, героиня «Первой любви», изведала, испытала. Асины слова про Лорелею она применительно к себе переиначивает: «Нет; я таких любить не могу, на которых мне приходится глядеть сверху вниз. Мне надобно такого, который сам бы меня сломил…»
Умница Лушин («Первая любовь»), присматриваясь к переменившейся Зинаиде, вдруг прозревает:
«А я, дурак, думал, что она кокетка! Видно, жертвовать собою сладко – для иных». «Для иных» – для любящих.
«Такой», который сам Зинаиду сломил, – отец героя, человек изысканно-спокойный, самоуверенный, самовла стный, – поучает юношу: «Сам бери, что можешь, а в руки не давайся; самому себе принадлежать – в этом вся штука жизни. ‹…› Умей хотеть – и будешь свободным, и командо вать будешь». Не пустые слова – жизненная позиция, и в подтверждение, что слова не пустые, – удар хлыстом по руке любящей женщины. Но любовь и его победила, «такого», самоуверенного, самовластного, согнула, сломи ла, заставила просить и плакать, его, привыкшего командовать, почитавшего власть выше свободы. «Сын мой… бойся этого счастья…» – последнее его поучение и послед ние его слова.
«В любви нет равенства… Нет, в любви одно лицо – раб, а другое – властелин», – твердит, умирая от любви, герой тургеневской повести «Переписка», появившейся прежде «Аси» и «Первой любви».
Неправда! Любовь не рабство, а счастье, и высшее в любви – не командовать, не властелином быть, не брать, а отдавать: себя, все в себе лучшее, все дорогое, что прежде только тебе принадлежало. Любовь настоящая (а ненастоящая – так и не любовь!) – это отдавать. Такая любовь возвышает и очищает: человек вырывается, выбира ется из интересов и потребностей собственного «я», а жить для другого, для других – высокое назначение человека на земле. «Если я не за себя, то кто же за меня, – говорил древний мудрец, – но если я только за себя, то зачем я». От любви к другому человеку неизмеримо ближе до любви к другим людям, к человечеству, чем от любви к себе.
«Я начал представлять себе, как я буду спасать ее из рук неприятелей, как я, весь облитый кровью, исторгну ее из темницы, как умру у ее ног», – мечтает герой «Первой любви». Какие прекрасные, возвышенные мечтания, и есть ли кто-нибудь, кто испытал это высокое чувство и не мечтал точно так же: спасти, умереть, пострадать, непременно собой жертвуя для счастья другого.
И Зинаида, когда ждет тревожно и нетерпеливо того, кто ее «сломит», именно об этом думает – о счастье любить, отдавать себя, жить для другого. Мало радости «стукать людей друг о друга» (так она именует свое кокетство), даже если эти люди все наперебой в тебя влюблены. В старинных играх часто попадался вопрос: «Что лучше – любить или быть любимым?» Как наивно! Да когда ты только любим, ты как бы лицо «неодушевлен ное»; когда любишь – ты в себе целый мир открываешь, мир изменяющийся, стремящийся к совершенству.
Конец повести написан сжато; о судьбе отца – несколько строчек; но отец смятенный, страдающий – выше, лучше, даже значительнее прежнего, уверенного в себе и презирающего остальных.
Вся повесть, почти до самой развязки, каждая подробность ее – точно в предгрозье – проникнута, напо ена, насыщена ожиданием, необходимостью любви – первой любви, «радостным чувством молодой, закипающей жизни».
И снова Тургенев ищет развязку, формулу происходя щего, ключ к нему – у Пушкина. В «Асе», мы помним, возникает «Евгений Онегин», здесь – «На холмах Грузии…». «„Что не любить оно не может“, – повторила Зинаи да. – ‹…› И хотело бы, да не может!» Ceрдце не может не любить, должно любить, потому что любовь наполняет сердце жизнью, заставляет его биться, гореть, страдать, радоваться, делает сердце сердцем в том высочайшем смысле, который вложил человек в это понятие.
Мы не должны забывать, что действие повести разворачивается летом 1833 года. Пушкин жив еще, еще не было второй Болдинской осени, до нее рукой подать – несколько недель осталось. Когда герой повести читает Зинаиде «На холмах Грузии…» (стихотворение 1829 г., можно сказать новое), еще не написаны ни «Медный всадник», ни «Сказка о рыбаке и рыбке», ни «Пиковая дама», ни «Капитанская дочка».
Точное ощущение времени для первых читателей «Первой любви» немало значило, но и нам, сегодняшним читателям, оно поможет полнее почувствовать атмосферу повести. Для самого же Тургенева, у которого в «Первой любви» «описано действительное происшествие без малей шей прикраски, и при перечитывании действующие лица встают как живые», для Тургенева и время действия, и упоминание Пушкина наполнено было, конечно, особым смыслом.
«Два месяца спустя я поступил в университет», – читаем на последних страницах повести. Два месяца спустя, осенью 1833 года, Иван Тургенев поступил в Московский университет, а в следующем, 1834 году перевелся в Петербургский, сделался учеником Плетнева, профессора и поэта, друга Пушкина. Однажды в передней у профессора столкнулся Тургенев с надевшим уже шинель и шляпу человеком; заканчивая беседу с хозяином, человек отпустил колкую шутку, сверкнул в улыбке ослепительно белыми зубами и необыкновенно живыми глазами и вышел; тут только узнал Тургенев, что видел великого нашего поэта. Еще раз встретил он Пушкина за несколько дней до его смерти на утреннем концерте в зале Энгельгардт: поэт «стоял у двери, опираясь на косяк, и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом. Помню его смуглое небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых крупных зубов, висячие бакенбарды, темные желчные глаза под высоким лбом почти без бровей – и кудрявые волосы… Он на меня бросил беглый взор; бесцеремонное внимание, с которым я уставился на него, произвело, должно быть, на него впечатление неприятное… Несколько дней спустя я видел его лежавшим в гробу…».
Воспоминания дорогие, Тургенева не оставлявшие, и конечно же при перечитывании повести, когда действую щие лица вставали перед ним как живые, Пушкин не одной лишь строчкой стиха оживал в его воображении…
Коли уж зашла речь о времени действия повести, мы, нынешние читатели, увлеченные историей первой любви, не должны забывать и об иных того времени приметах, для писателя и первых его читателей очевидных и немаловаж ных.
Писарев, разбирая «Асю», объясняет с задором: господин Н. Н. смущен тем, что затруднится отвечать на вопрос какого-нибудь великосветского хлыща: «Как ваша супруга урожденная?» То, что для нас, читателей нынешних, безразлично, что почти не привлекает нашего внимания, ставило первых читателей Тургенева, как и героев его, перед необходимостью преодолеть привычку, пренебречь условностями, проявить известную смелость духа; знакомясь с повестью, они, первые читатели, эту «неправильно начатую жизнь» Аси цепко держали в памя ти, и значила она для них куда больше, чем для нас.
Но ведь и о натуре Зинаиды размышляя, автор особо отмечает (и читателей просит не забыть) неправильное воспитание, странные знакомства, бедность. Мы, как и семейство героя повести, еще не осведомлены о Засекиных – и вот, пожалуйте, первая характеристика устами почтительно подающего блюдо дворецкого (на матушкино: «Должно быть, бедная какая-нибудь»): «На трех извозчиках приехали-с… своего экипажа не имеют-с, и мебель самая пустая». И для нас – а для первых читателей тем более – примета зримая, а с нею и атмосфера времени. Как и беглое вроде бы замечание: отец холодным взглядом прекратил этот неуместный, их уровня недостойный разговор.
«…Нанятый ею [Засекиной] флигелек был так ветх, и мал, и низок, что люди, хотя несколько зажиточные, не согласились бы по селиться в нем», – поясняет главный герой повести, рассказчик.
Здесь весьма кстати поразмыслить не только о времени, но, пусть бегло, и об удивительно точно «спланированном» месте действия – «пространстве повести». Ну хотя бы о большом барском доме с колоннами, занятом семейством героя, и двух низеньких флигельках по обе стороны.
В одном, правом, поселилась Зинаида с матерью. «…Они люди не comme il faut… и тебе нечего к ним таскаться…» – обозначает расстояние между домом и флигелем матушка героя.
Между тем другой флигелек, левый, будто отверженный, остается в стороне и от дома и от повествования, туда герою вход и подавно заказан. Но он заглядывает из любопытства: «…во флигеле налево помещалась крохотная фабрика дешевых обоев… Я не раз хаживал туда смотреть, как десяток худых и взъерошенных мальчишек в засаленных халатах и с испитыми лицами то и дело вскакивали на деревянные рычаги, нажимавшие четырехугольные обрубки пресса, и таким образом тяжестью своих тщедушных тел вытискивали пестрые узоры обоев». И только. Ну, само собой, что им, этим измученным мальчишкам, до господских страстей – между левым флигелем и остальным домом пропасть непреодолимая, но как-то невозможно уже, читая повесть, худеньких мальчиков позабыть. То есть, кажется, и не думаешь о них, но с первым коротким своим появлением растворились они в воздухе повести, сделались его частицей, и с каждым вдохом, с каждым глотком этого воздуха о себе напоминают. И еще напоминают о том, что пространство повести не замкнуто. Напоминают, к примеру, о прекрасных мальчиках, собравшихся у ночного костра в «Бежином луге», – ведь иные из них тоже на бумажной фабрике работали, – об их прекрасных думах, чувствованиях, мечтах…
Тургенева упрекали за то, что взял сюжетом «Первой любви» подлинные события из жизни своей семьи; он упреки выслушивал и принимал, но признался однажды, что при всем том никак не желал бы, чтобы повести не существовало, – ему было необходимо написать ее.
Первая любовь обернулась труднейшим испытанием для героя, но он, по его признанию, почел бы себя несчастливым, если бы не встретился с ней.
Человеку дана лишь одна, собственная его жизнь, и лишь испытания, выпавшие ему самому на долю, открывают перед ним мир во всей его глубине и многозначности, помогают понять сущность добра и красоты, идти вперед.
«Он не употреблял свой талант (уменье хорошо изображать) на то, чтобы скрывать свою душу, как это делали и делают, а на то, чтобы всю ее выворотить наружу», – подводил Лев Николаевич Толстой итог жизни и творчества Тургенева в письме к А. Н. Папину от 10 января 1884 г. И про должал: «и в жизни, и в писаниях» им двигала «вера в добро – любовь и самоотвержение…».
В. И. Порудоминский
Ася
I
Мне было тогда лет двадцать пять, – начал Н. Н., – дела давно минувших дней, как видите. Я только что вырвался на волю и уехал за границу, не для того, чтобы «окончить мое воспитание», как говаривалось тогда, а просто мне захотелось посмотреть на мир Божий. Я был здоров, молод, весел, деньги у меня не переводились, заботы еще не успели завестись – я жил без оглядки, делал что хотел, процветал, одним словом. Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение и процветать ему долго нельзя. Молодость ест пряники золоченые, да и думает, что это-то и есть хлеб насущный; а придет время – и хлебца напросишься. Но толковать об этом не для чего.
Я путешествовал без всякой цели, без плана; останавливался везде, где мне нравилось, и отправлялся тотчас далее, как только чувствовал желание видеть новые лица – именно лица. Меня занимали исключительно одни люди; я ненавидел любопытные памятники, замечательные собрания, один вид лон-лакея[1 - Лон-лакей (нем. Lohn Lakai) – наемный лакей; здесь: проводник.] возбуждал во мне ощущение тоски и злобы; я чуть с ума не сошел в дрезденском «Грюне Гевёлбе»[2 - Грюне Гевёлбе (дословно: «зеленый свод», нем.) – коллекция ювелирных изделий и драгоценных камней в Дрезденском замке-резиденции.]. Природа действовала на меня чрезвычайно, но я не любил так называемых ее красот, необыкновенных гор, утесов, водопадов; я не любил, чтобы она навязывалась мне, чтобы она мне мешала. Зато лица, живые человеческие лица – речи людей, их движения, смех – вот без чего я обойтись не мог. В толпе мне было всегда особенно легко и отрадно; мне было весело идти, куда шли другие, кричать, когда другие кричали, и в то же время я любил смотреть, как эти другие кричат. Меня забавляло наблюдать людей… да я даже не наблюдал их – я их рассматривал с каким-то радостным и ненасытным любопытством. Но я опять сбиваюсь в сторону.
Итак, лет двадцать тому назад я проживал в немецком небольшом городке З., на левом берегу Рейна. Я искал уединения: я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой, с которой познакомился на водах. Она была очень хороша собой и умна, кокетничала со всеми – и со мною, грешным, – сперва даже поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому баварскому лейтенанту. Признаться сказать, рана моего сердца не очень была глубока; но я почел долгом предаться на некоторое время печали и одиночеству – чем молодость не тешится! – и поселился в З.
Городок этот мне понравился своим местоположением у подошвы двух высоких холмов, своими дряхлыми стенами и башнями, вековыми липами, крутым мостом над светлой речкой, впадавшей в Рейн, – а главное, своим хорошим вином. По его узким улицам гуляли вечером, тотчас после захождения солнца (дело было в июне), прехорошенькие белокурые немочки и, встретясь с иностранцем, произносили приятным голоском: «Guten Abend»[3 - Добрый вечер! (нем.)] – а некоторые из них не уходили даже и тогда, когда луна поднималась из-за острых крыш стареньких домов и мелкие каменья мостовой четко рисовались в ее неподвижных лучах. Я любил бродить тогда по городу; луна, казалось, пристально глядела на него с чистого неба; и город чувствовал этот взгляд и стоял чутко и мирно, весь облитый ее светом, этим безмятежным и в то же время тихо душу волнующим светом. Петух на высокой готической колокольне блестел бледным золотом; таким же золотом переливались струйки по черному глянцу речки; тоненькие свечки (немец бережлив!) скромно теплились в узких окнах под грифельными кровлями; виноградные лозы таинственно высовывали свои завитые усики из-за каменных оград; что-то пробегало в тени около старинного колодца на трехугольной площади, внезапно раздавался сонливый свисток ночного сторожа, добродушная собака ворчала вполголоса, а воздух так и ластился к лицу, и липы пахли так сладко, что грудь поневоле все глубже и глубже дышала, и слово: «Гретхен» – не то восклицание, не то вопрос – так и просилось на уста.
Городок З. лежит в двух верстах от Рейна. Я часто ходил смотреть на величавую реку и, не без некоторого напряжения мечтая о коварной вдове, просиживал долгие часы на каменной скамье под одиноким огромным ясенем. Маленькая статуя Мадонны с почти детским лицом и красным сердцем на груди, пронзенным мечами, печально выглядывала из его ветвей. На противоположном берегу находился городок Л., немного побольше того, в котором я поселился. Однажды вечером сидел я на своей любимой скамье и глядел то на реку, то на небо, то на виноградники. Передо мною белоголовые мальчишки карабкались по бокам лодки, вытащенной на берег и опрокинутой насмоленным брюхом кверху. Кораблики тихо бежали на слабо надувшихся парусах; зеленоватые волны скользили мимо, чуть-чуть вспухая и урча. Вдруг донеслись до меня звуки музыки; я прислушался. В городе Л. играли вальс; контрабас гудел отрывисто, скрипка неясно заливалась, флейта свистала бойко.
– Что это? – спросил я у подошедшего ко мне старика в плисовом жилете, синих чулках и башмаках с пряжками.
– Это, – отвечал он мне, предварительно передвинув мундштук своей трубки из одного угла губ в другой, – студенты приехали из Б. на коммерш.
«А посмотрю-ка я на этот коммерш, – подумал я, – кстати же я в Л. не бывал». Я отыскал перевозчика и отправился на другую сторону.
II
Может быть, не всякий знает, что такое коммерш. Это особенного рода торжественный пир, на который сходятся студенты одной земли, или братства (Landsmannschaft). Почти все участники в коммерше носят издавна установленный костюм немецких студентов: венгерки, большие сапоги и маленькие шапочки с околышами известных цветов. Собираются студенты обыкновенно к обеду под председательством сениора, то есть старшины, – и пируют до утра, пьют, поют песни, Landesvater[4 - Landesvater («отец земли», нем.) – старинная немецкая песня.], Gaudeamus[5 - Gaudeamus – («будем радоваться», лат.) – старинная студенческая песня-гимн на латинском языке.], курят, бранят филистеров[6 - Филистер – человек с узким, ограниченным умственным кругозором; обыватель.]; иногда они нанимают оркестр.
Такой точно коммерш происходил в г. Л. перед небольшой гостиницей под вывескою солнца, в саду, выходившем на улицу. Над самой гостиницей и над садом веяли флаги; студенты сидели за столами под обстриженными липками; огромный бульдог лежал под одним из столов; в стороне, в беседке из плюща, помещались музыканты и усердно играли, то и дело подкрепляя себя пивом. На улице, перед низкой оградой сада, собралось довольно много народа: добрые граждане городка Л. не хотели пропустить случая поглазеть на заезжих гостей. Я тоже вмешался в толпу зрителей. Мне было весело смотреть на лица студентов; их объятия, восклицания, невинное кокетничанье молодости, горящие взгляды, смех без причины – лучший смех на свете – все это радостное кипение жизни юной, свежей, этот порыв вперед – куда бы то ни было, лишь бы вперед, – это добродушное раздолье меня трогало и поджигало. «Уж не пойти ли к ним?» – спрашивал я себя.
– Ася, довольно тебе? – вдруг произнес за мною мужской голос по-русски.
– Подождем еще, – отвечал другой, женский голос на том же языке.
Я быстро обернулся… Взор мой упал на красивого молодого человека в фуражке и широкой куртке; он держал под руку девушку невысокого роста, в соломенной шляпе, закрывавшей всю верхнюю часть ее лица.
– Вы русские? – сорвалось у меня невольно с языка.
Молодой человек улыбнулся и промолвил:
– Да, русские.
– Я никак не ожидал… в таком захолустье… – начал было я.
– И мы не ожидали, – перебил он меня, – что ж, тем лучше. Позвольте рекомендоваться: меня зовут Гагиным, а вот это моя… – он запнулся на мгновенье, – моя сестра. А ваше имя позвольте узнать?
Я назвал себя, и мы разговорились. Я узнал, что Гагин, путешествуя, так же как я, для своего удовольствия, неделю тому назад заехал в городок Л. да и застрял в нем. Правду сказать, я неохотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издали по их походке, покрою платья, а главное, по выражению их лица. Самодовольное и презрительное, часто повелительное, оно вдруг сменялось выражением осторожности и робости… Человек внезапно настораживался весь, глаз беспокойно бегал… «Батюшки мои! не соврал ли я, не смеются ли надо мною?» – казалось, говорил этот уторопленный взгляд… Проходило мгновенье – и снова восстановлялось величие физиономии, изредка чередуясь с тупым недоуменьем. Да, я избегал русских, но Гагин мне понравился тотчас. Есть на свете такие счастливые лица: глядеть на них всякому любо, точно они греют вас или гладят. У Гагина было именно такое лицо, милое, ласковое, с большими мягкими глазами и мягкими курчавыми волосами. Говорил он так, что, даже не видя его лица, вы по одному звуку его голоса чувствовали, что он улыбается.