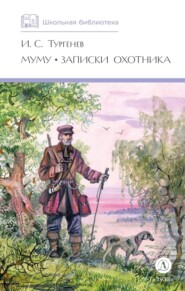По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Рудин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что такое? какое предприятие?
– А вот какое. Я предлагал вашему брату поехать для развлечения путешествовать и взять вас с собой. Ухаживать, собственно, за вами брался я…
– Вот прекрасно! – воскликнула Александра Павловна, – воображаю себе, как бы вы за мною ухаживали. Да вы бы меня с голоду уморили.
– Вы это потому так говорите, Александра Павловна, что не знаете меня. Вы думаете, что я чурбан, чурбан совершенный, деревяшка какая-то; а известно ли вам, что я способен таять, как сахар, дни простаивать на коленях?
– Вот это бы я, признаюсь, посмотрела!
Лежнев вдруг поднялся.
– Да выдьте за меня замуж, Александра Павловна, вы всё это и увидите.
Александра Павловна покраснела до ушей.
– Что вы это такое сказали, Михайло Михайлыч? – повторила она с смущением.
– А то я сказал, – ответил Лежнев, – что уже давным-давно и тысячу раз у меня на языке было. Я проговорился наконец, и вы можете поступить, как знаете. А чтобы не стеснять вас, я теперь выйду. Если вы хотите быть моей женою… Удаляюсь. Если вам не противно, вы только велите меня позвать: я уже пойму…
Александра Павловна хотела было удержать Лежнева, но он проворно ушел, без шапки отправился в сад, оперся на калитку и начал глядеть куда-то.
– Михайло Михайлыч! – раздался за ним голос горничной, – пожалуйте к барыне. Оне вас велели позвать.
Михайло Михайлыч обернулся, взял горничную, к великому ее изумлению, обеими руками за голову, поцеловал ее в лоб и пошел к Александре Павловне.
XI
Вернувшись домой, тотчас после встречи с Лежневым, Рудин заперся в своей комнате и написал два письма: одно – к Волынцеву (оно уже известно читателям) и другое – к Наталье. Он очень долго сидел над этим вторым письмом, многое в нем перемарывал и переделывал и, тщательно списав его на тонком листе почтовой бумаги, сложил его как можно мельче и положил в карман. С грустью на лице прошелся он несколько раз взад и вперед по комнате, сел на кресло перед окном, подперся рукою; слеза тихо выступила на его ресницы… Он встал, застегнулся на все пуговицы, позвал человека и велел спросить у Дарьи Михайловны, может ли он ее видеть.
Человек скоро вернулся и доложил, что Дарья Михайловна приказала его просить. Рудин пошел к ней.
Она приняла его в кабинете, как в первый раз, два месяца тому назад. Но теперь она не была одна: у ней сидел Пандалевский, скромный, свежий, чистый и умиленный, как всегда.
Дарья Михайловна любезно встретила Рудина, и Рудин любезно ей поклонился, но при первом взгляде на улыбавшиеся лица обоих всякий хотя несколько опытный человек понял бы, что между ними если и не высказалось, то произошло что-то неладное. Рудин знал, что Дарья Михайловна на него сердится. Дарья Михайловна подозревала, что ему уже все известно.
Донесение Пандалевского очень ее расстроило. Светская спесь в ней зашевелилась. Рудин, бедный, нечиновный и пока неизвестный человек, дерзал назначить свидание ее дочери – дочери Дарьи Михайловны Ласунской!!
– Положим, он умен, он гений! – говорила она, – да что же это доказывает? После этого всякий может надеяться быть моим зятем?
– Я долго глазам своим не верил, – подхватил Пандалевский. – Как это не знать своего места, удивляюсь!
Дарья Михайловна очень волновалась, и Наталье досталось от нее.
Она попросила Рудина сесть. Он сел, но уже не как прежний Рудин, почти хозяин в доме, даже не как хороший знакомый, а как гость, и не как близкий гость. Все это сделалось в одно мгновение. Так вода внезапно превращается в твердый лед.
– Я пришел к вам, Дарья Михайловна, – начал Рудин, – поблагодарить вас за ваше гостеприимство. Я получил сегодня известие из моей деревеньки и должен непременно сегодня же ехать туда.
Дарья Михайловна пристально посмотрела на Рудина.
«Он предупредил меня; должно быть, догадывается, – подумала она. – Он избавляет меня от тягостного объяснения, тем лучше. Да здравствуют умные люди!»
– Неужели? – промолвила она громко. – Ах, как это неприятно! Ну, что делать! Надеюсь увидеть вас нынешней зимой в Москве. Мы сами скоро отсюда едем.
– Я не знаю, Дарья Михайловна, удастся ли мне быть в Москве; но если соберусь со средствами, за долг почту явиться к вам.
«Ага, брат! – подумал в свою очередь Пандалевский, – давно ли ты здесь распоряжался барином, а теперь вот как пришлось выражаться!»
– Вы, стало быть, неудовлетворительные известия из вашей деревни получили? – произнес он с обычной расстановкой.
– Да, – сухо возразил Рудин.
– Неурожай, может быть?
– Нет… другое… Поверьте, Дарья Михайловна, – прибавил Рудин, – я никогда не забуду времени, проведенного мною в вашем доме.
– И я, Дмитрий Николаич, всегда с удовольствием буду вспоминать наше знакомство с вами… Когда вы едете?
– Сегодня, после обеда.
– Так скоро!.. Ну, желаю вам счастливого пути. Впрочем, если ваши дела не задержат вас, может быть, вы еще нас застанете здесь.
– Я едва ли успею, – возразил Рудин и встал. – Извините меня, – прибавил он, – я не могу тотчас выплатить мой долг вам; но как только приеду в деревню…
– Полноте, Дмитрий Николаич! – перебила его Дарья Михайловна, – как вам не стыдно!.. Но который-то час? – спросила она.
Пандалевский достал из кармана жилета золотые часики с эмалью и посмотрел на них, осторожно налегая розовой щекой на твердый и белый воротничок.
– Два часа и тридцать две минуты, – промолвил он.
– Пора одеваться, – заметила Дарья Михайловна. – До свиданья, Дмитрий Николаич!
Рудин встал. Весь разговор между ним и Дарьей Михайловной носил особый отпечаток. Актеры так репетируют свои роли, дипломаты так на конференциях меняются заранее условленными фразами…
Рудин вышел. Он теперь знал по опыту, как светские люди даже не бросают, а просто роняют человека, ставшего им ненужным: как перчатку после бала, как бумажку с конфетки, как невыигравший билет лотереи-томболы.
Он наскоро уложился и с нетерпением начал ожидать мгновения отъезда. Все в доме очень удивились, узнав об его намерении; даже люди глядели на него с недоумением. Басистов не скрывал своей горести. Наталья явно избегала Рудина. Она старалась не встречаться с ним взорами; однако он успел всунуть ей в руку свое письмо. За обедом Дарья Михайловна еще раз повторила, что надеется увидеть его перед отъездом в Москву, но Рудин ничего не отвечал ей. Пандалевский чаще всех с ним заговаривал. Рудина не раз подмывало броситься на него и поколотить его цветущее и румяное лицо. M-lle Boncourt частенько посматривала на Рудина с лукавым и странным выражением в глазах: у старых, очень умных легавых собак можно иногда заметить такое выражение… «Эге! – казалось, говорила она про себя, – вот как тебя!»
Наконец пробило шесть часов, и подали тарантас Рудина. Он стал торопливо прощаться со всеми. На душе у него было очень скверно. Не ожидал он, что так выедет из этого дома: его как будто выгоняли… «Как это все сделалось! и к чему было спешить? А впрочем, один конец», – вот что думал он, раскланиваясь на все стороны с принужденной улыбкой. В последний раз взглянул он на Наталью, и сердце его шевельнулось: глаза ее были устремлены на него с печальным, прощальным упреком.
Он проворно сбежал с лестницы, вскочил в тарантас. Басистов вызвался проводить его до первой станции и сел вместе с ним.
– Помните ли вы, – начал Рудин, как только тарантас выехал со двора на широкую дорогу, обсаженную елками, – помните вы, что говорит Дон-Кихот своему оруженосцу, когда выезжает из дворца герцогини? «Свобода, – говорит он, – друг мой Санчо, одно из самых драгоценных достояний человека, и счастлив тот, кому небо даровало кусок хлеба, кому не нужно быть за него обязанным другому!» Что Дон-Кихот чувствовал тогда, я чувствую теперь… Дай Бог и вам, добрый мой Басистов, испытать когда-нибудь это чувство!
Басистов стиснул руку Рудина, и сердце честного юноши забилось сильно в его растроганной груди. До самой станции говорил Рудин о достоинстве человека, о значении истинной свободы, – говорил горячо, благородно и правдиво, – и когда наступило мгновение разлуки, Басистов не выдержал, бросился ему на шею и зарыдал. У самого Рудина полились слезы; но он плакал не о том, что расставался с Басистовым, и слезы его были самолюбивые слезы.
Наталья ушла к себе и прочла письмо Рудина.
«Любезная Наталья Алексеевна, – писал он ей, – я решился уехать. Мне другого выхода нет. Я решился уехать, пока мне не сказали ясно, чтобы я удалился. Отъездом моим прекращаются все недоразумения; а сожалеть обо мне едва ли кто-нибудь будет. Чего же ждать?.. Все так; но для чего же писать к вам?