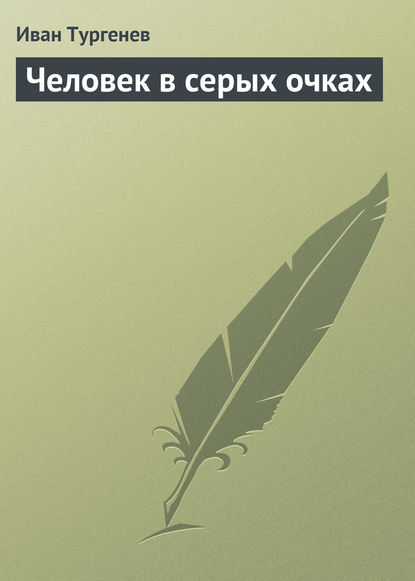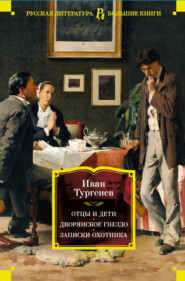По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Человек в серых очках
Автор
Жанр
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Помаленьку, благодарствуйте. А вы как, monsieur Francois?
– И я тоже помаленьку. Са boulotte. Вчера, однако, чуть не издох… Судороги в сердце… Смертью запахло… скверный запах! Но это неважно. Только знаете что: пойдемте, сядемте в сад; а то здесь народу много набралось. Терпеть не могу, когда на меня смотрят со стороны или кто сзади сидит, за спиной. Да и погода чудесная.
Мы отправились в сад – сели. Помнится, когда ему пришлось платить два су за свой стул, он достал из кармана крошечный, ветхий, плоский портмоне, долго рылся в нем – да и денег в портмоне едва ли было много больше, чем те два су. Я ждал, что он возобновит свои парадоксы… но вышло иначе. Он принялся меня расспрашивать о разных значительных русских лицах. Я отвечал ему, как умел; но ему все хотелось больше подробностей, больше биографических черт. Оказалось, что ему много было известно такого, чего я не подозревал. Большой запас сведений был у этого человека.
Понемногу разговор перешел на политику. Да и трудно было ее избегнуть, при тогдашнем возбужденном состоянии умов. Мусье Франсуа упомянул вскользь и словно нехотя о Гизо, о Тиэре; по поводу первого заметил, что вот как Франция несчастна: один только у ней и выискался человек с твердой волей – и то некстати; а о втором пожалел, сказав, что роль его теперь надолго кончена.
– Помилуйте, она только начинается! – воскликнул я, – какие речи он держит в палате депутатов!
– Теперь пойдут другие люди, – пробормотал он, – а все эти речи – один только шум, и больше ничего. Плывет человек в лодке – и говорит водопаду… а тот его сейчас перекувырнет вместе с его лодкой. Да, впрочем – вы мне не верите.
– Что ж, – продолжал я, – вы разве полагаете, что Одилон Барро… – Тут мусье Франсуа уставился на меня и расхохотался, закинув назад голову.
– Бум, бум, бум, – произнес он, передразнивая гарсона, разносившего кофе в ротонде, – вот вам весь Одилон Барро… Бум, бум!
– Да! – промолвил я не без досады. – Ведь, по-вашему, мы накануне республики. – Социалисты, что ли, будут эти новые люди?
Мусье Франсуа принял несколько торжественную позу.
– Социализм родился у нас во Франции, милостивый государь – да и во Франции же умрет, если уже не умер. Или его убьют. Убьют его двояко: или насмешкой – не может же господин Консидеран безнаказанно уверять, что у людей вырастет хвост с глазом на конце… или вот как. – Он поставил обе руки, как бы прицеливаясь из ружья. – Вольтер говаривал, что у французов не эпические головы; а я осмеливаюсь утверждать, что у нас не социалистические головы.
– За границей о вас не такого мнения.
– В таком случае вы все, господа, за границей в сотый раз доказываете, что не понимаете нас. В настоящее время социализм требует творческой силы. Он пойдет за ней к итальянцам, к немцам… к вам, пожалуй. А француз – изобретатель (он почти все изобрел)… но не творец. Француз остер и узок, как шпага, – вот он и проникает в суть вещей, изобретает, находит… А чтобы творить – надо быть широким, круглым.
– Как англичане или ваши любимые немцы, – ввернул я не без насмешки.
Но мусье Франсуа не обратил внимания на мою шпильку.
– Социализм! Социализм! – продолжал он. – Это не французский принцип. У нас совсем другие принципы. У нас их – два; два краеугольные камня: революция и рутина. Робеспиер и мусье Прюдом – вот наши национальные герои.
– В самом деле? А военный элемент – куда вы его деваете?
– Да мы вовсе не военный народ. Вас это удивляет? Мы храбрый, очень храбрый народ; воинственный, но не военный… Славу Богу, мы больше этого стоим.
Он пожевал губами.
– Да; это так. И со всем тем – не было бы нас, французов, не было бы и Европы.
– Но была бы Америка.
– Нет. Ибо Америка – та же Европа, только наизнанку. У американцев нет ни одной из тех основ, на которых зиждется здание европейского государства… а между тем – выходит одно и то же. Все людское – одно и то же. Вы помните наставление унтер-офицера рекрутам: «Направо кругом – совершенно то же самое, что налево кругом; только оно совершенно противоположно». Ну вот и Америка: та же Европа – только налево кругом.
– Если бы Франция была Римом, – проговорил мусье Франсуа после недолгого молчания, – вот когда бы кстати явиться Катилине! Теперь, когда скоро, очень скоро – вы это увидите, милостивый государь! – камни (он возвысил голос) – камни на наших мостовых – вот тут, близко, где-нибудь рядом с нами – опять отведают крови! Но у нас Каталины не будет – и Цезаря не будет; а будет все тот же Прюдом с Робеспиером. Кстати, не согласитесь ли вы со мною: как жалко, что Шекспир не написал «Каталины»!
– А вы высокого мнения о Шекспире, несмотря на то, что он поэт?
– Да. Он был человек, счастливо рожденный – и с дарованием. Он умел видеть в одно и то же время и белое и черное, что очень редко; и ни за белое не стоял, ни за черное – что еще реже. Вот еще хорошую вещь он написал – «Кориолана»! Лучшая его пиеса!
Мне тотчас же припомнились мои догадки насчет аристократизма мусье Франсуа.
– Вам «Кориолан», может быть, оттого так нравится, что в этой трагедии Шекспир очень непочтительно, почти презрительно отзывается о народе, о черни?
– Нет, – возразил мусье Франсуа. – Я чернь не презираю; я вообще народ не презираю. Прежде чем презирать других, надо бы начать с самого себя… что со мной случается лишь урывками… когда мне есть нечего, – прибавил он, понизив голос и сумрачно насупив брови. – Презирать народ?! С какой стати? Народ – то же, что земля. Хочу, пашу ее… и она меня кормит; хочу, оставляю ее под паром. Она меня носит – а я ее попираю. Правда, иногда она вдруг возьмет да встряхнется, как мокрый пудель, и повалит все, что мы на ней настроили, – все наши карточные домики. Да ведь это, в сущности, редко случается – эти землетрясения-то. С другой стороны, я очень хорошо знаю, что в конце концов она меня поглотит… И народ меня поглотит тоже. Этому помочь нельзя. А презирать народ? Презирать молено только то, что при других условиях следует уважать. А тут ни тому, ни другому чувству места нет. Тут надо пользоваться умеючи. Всем уметь пользоваться – вот что надо.
– А позвольте спросить – вы умели пользоваться? Мусье Франсуа вздохнул.
– Нет; не умел.
– Неужели?
– Не умел, говорят вам. Вы вот смотрите на меня и, пожалуй, думаете: «Ты, мол, пророчишь, что скоро во Франции настанут перевороты… вот тут тебе и ловить рыбу – в мутной-то воде». Но щука не в мутной воде ловит рыбу. А я даже не щука!
Он круто повернулся на стуле и ударил кулаком по его спинке.
– Нет! ничем я не умел пользоваться, а то бы я не в таком виде предстал перед вами! – Он указал на всего себя беглым движением руки. – Я бы тогда, может быть, совсем не познакомился с вами… О чем я бы очень сожалел, – прибавил он с натянутой улыбкой. – И я бы не жил там, в том чердаке, где я живу, – не имел бы возможности, вставая поутру и бросая взгляд на море крыш и труб Парижа, повторять восклицание Югурты: «Urbs venalis!»[5 - «Продажный город!» (лат.)] Гм. Да; а был бы я сам, как этот город, не был бы я в теперешнем положении; не было бы этой нужды да бедности…
«Вот когда он у меня денег попросит», – подумалось мне. Но он умолк, уронил голову на грудь и начал чертить по песку концом палки. Потом он опять глубоко-глубоко вздохнул, снял очки, достал старый клетчатый платок из заднего кармана, свернул его в клубочек и провел им раза два по лбу, высоко поднимая локоть.
– Да, – промолвил он наконец чуть слышно, – жизнь – печальная штука; печальная штука жизнь, милостивый государь мой. Одно утешает меня, а именно то, что я умру скоро – и непременно насильственной смертью. («И не будешь королем?» – чуть не сорвалось у меня с языка; но я удержался.) Да, насильственной смертью. Вы посмотрите на это (он поднес ко мне левую руку, в которой держал очки, ладонью кверху – и, не выпуская платка, положил на нее указательный палец правой… неопрятны были обе). – Вы видите эту черту, пересекающую жизненную линию?
– Вы хиромантик? – спросил я.
– Вы видите эту черту? – настойчиво повторил он. – Стало быть, я прав. – А вы наперед знайте, милостивый государь, если, находясь в таком месте, где вам меньше всего бы следовало вспоминать обо мне, вы все-таки обо мне вспомните – знайте: меня не стало.
Он опять понурился и руку с платком уронил на колено; другая с очками повисла, как плетка. Я воспользовался тем, что глаза мусье Франсуа были опущены – не смущали меня, – и внимательнее прежнего посмотрел на него. Он мне вдруг показался таким стариком; такая усталость сказывалась в наклоне его спины и плечей, в самой постановке его больших плоских ног, обутых в заплатанные сапоги; так горько стиснулись губы, так глубоко ввалились небритые щеки, так хило поникла тощая шея, так уныло повис клок поседелых волос на изрытый морщинами лоб… «Несчастный, жалкий ты человек, – решил я тут же про себя, – несчастный во всех твоих начинаниях и предприятиях, в семейных и всяческих делах. Если ты был женат – жена тебя обманула и бросила; а если у тебя есть дети – ты их не видишь и не знаешь…»
Громкое восклицание на русском языке прервало мои размышления: кто-то звал меня. Я обернулся и в двух шагах от себя увидел всем известного А. И. Г<ерцена>, проживавшего тогда в Париже. Я встал и подошел к нему.
– С кем ты это сидишь? – начал он, нисколько не умеряя своего звонкого голоса. – Что за фигура?
– А что?
– Да, помилуй, это шпион. Непременно шпион.
– Ты разве его знаешь?
– Вовсе не знаю; да стоит только взглянуть на него. Вся ихняя манера. Охота тебе с ним якшаться. Смотри берегись!
Я ничего не ответил А. И. Г<ерцену>. Но так как я знал, что при всем его блестящем и проницательном уме понимание людей, особенно на первых порах, у него было слабое; так как я хорошо помнил, что за его гостеприимным и радушным столом попадались иногда самые неблаговидные личности, личности, которые возбуждали его доверчивую симпатию двумя-тремя сочувственными словами и которые впоследствии оказывались действительными… агентами, как он это сам потом рассказал в своих записках, то я и не придал особенной важности его предостереженью и, поблагодарив его за дружескую заботливость, вернулся к своему мусье Франсуа. Тот сидел по-прежнему, неподвижный и понурый.
– Что я хотел сказать вам, – заговорил он, как только я уселся возле него. – За вами, господа русские, водится дурная привычка. Вы на улице, перед чужими, перед французами, говорите громко между собою по-русски – словно вы уверены, что никто вас не поймет. А это неосторожно. Вот я, например, все понял, что сказал ваш приятель.
Я невольно покраснел.
– Пожалуйста, не думайте… – начал я. – Конечно… мой приятель…
– Я его знаю, – перебил меня мусье Франсуа, – он человек весьма остроумный… Но «errare humanum est»[6 - «Человеку свойственно ошибаться» (лат.)] (мусье Франсуа, очевидно, любил щегольнуть латынью). Судя по моей наружности, можно предполагать обо мне… все что угодно. Но только позвольте спросить вас: если даже я был бы тем, чем меня назвал ваш приятель, какая была бы мне польза выслеживать вас?
– И я тоже помаленьку. Са boulotte. Вчера, однако, чуть не издох… Судороги в сердце… Смертью запахло… скверный запах! Но это неважно. Только знаете что: пойдемте, сядемте в сад; а то здесь народу много набралось. Терпеть не могу, когда на меня смотрят со стороны или кто сзади сидит, за спиной. Да и погода чудесная.
Мы отправились в сад – сели. Помнится, когда ему пришлось платить два су за свой стул, он достал из кармана крошечный, ветхий, плоский портмоне, долго рылся в нем – да и денег в портмоне едва ли было много больше, чем те два су. Я ждал, что он возобновит свои парадоксы… но вышло иначе. Он принялся меня расспрашивать о разных значительных русских лицах. Я отвечал ему, как умел; но ему все хотелось больше подробностей, больше биографических черт. Оказалось, что ему много было известно такого, чего я не подозревал. Большой запас сведений был у этого человека.
Понемногу разговор перешел на политику. Да и трудно было ее избегнуть, при тогдашнем возбужденном состоянии умов. Мусье Франсуа упомянул вскользь и словно нехотя о Гизо, о Тиэре; по поводу первого заметил, что вот как Франция несчастна: один только у ней и выискался человек с твердой волей – и то некстати; а о втором пожалел, сказав, что роль его теперь надолго кончена.
– Помилуйте, она только начинается! – воскликнул я, – какие речи он держит в палате депутатов!
– Теперь пойдут другие люди, – пробормотал он, – а все эти речи – один только шум, и больше ничего. Плывет человек в лодке – и говорит водопаду… а тот его сейчас перекувырнет вместе с его лодкой. Да, впрочем – вы мне не верите.
– Что ж, – продолжал я, – вы разве полагаете, что Одилон Барро… – Тут мусье Франсуа уставился на меня и расхохотался, закинув назад голову.
– Бум, бум, бум, – произнес он, передразнивая гарсона, разносившего кофе в ротонде, – вот вам весь Одилон Барро… Бум, бум!
– Да! – промолвил я не без досады. – Ведь, по-вашему, мы накануне республики. – Социалисты, что ли, будут эти новые люди?
Мусье Франсуа принял несколько торжественную позу.
– Социализм родился у нас во Франции, милостивый государь – да и во Франции же умрет, если уже не умер. Или его убьют. Убьют его двояко: или насмешкой – не может же господин Консидеран безнаказанно уверять, что у людей вырастет хвост с глазом на конце… или вот как. – Он поставил обе руки, как бы прицеливаясь из ружья. – Вольтер говаривал, что у французов не эпические головы; а я осмеливаюсь утверждать, что у нас не социалистические головы.
– За границей о вас не такого мнения.
– В таком случае вы все, господа, за границей в сотый раз доказываете, что не понимаете нас. В настоящее время социализм требует творческой силы. Он пойдет за ней к итальянцам, к немцам… к вам, пожалуй. А француз – изобретатель (он почти все изобрел)… но не творец. Француз остер и узок, как шпага, – вот он и проникает в суть вещей, изобретает, находит… А чтобы творить – надо быть широким, круглым.
– Как англичане или ваши любимые немцы, – ввернул я не без насмешки.
Но мусье Франсуа не обратил внимания на мою шпильку.
– Социализм! Социализм! – продолжал он. – Это не французский принцип. У нас совсем другие принципы. У нас их – два; два краеугольные камня: революция и рутина. Робеспиер и мусье Прюдом – вот наши национальные герои.
– В самом деле? А военный элемент – куда вы его деваете?
– Да мы вовсе не военный народ. Вас это удивляет? Мы храбрый, очень храбрый народ; воинственный, но не военный… Славу Богу, мы больше этого стоим.
Он пожевал губами.
– Да; это так. И со всем тем – не было бы нас, французов, не было бы и Европы.
– Но была бы Америка.
– Нет. Ибо Америка – та же Европа, только наизнанку. У американцев нет ни одной из тех основ, на которых зиждется здание европейского государства… а между тем – выходит одно и то же. Все людское – одно и то же. Вы помните наставление унтер-офицера рекрутам: «Направо кругом – совершенно то же самое, что налево кругом; только оно совершенно противоположно». Ну вот и Америка: та же Европа – только налево кругом.
– Если бы Франция была Римом, – проговорил мусье Франсуа после недолгого молчания, – вот когда бы кстати явиться Катилине! Теперь, когда скоро, очень скоро – вы это увидите, милостивый государь! – камни (он возвысил голос) – камни на наших мостовых – вот тут, близко, где-нибудь рядом с нами – опять отведают крови! Но у нас Каталины не будет – и Цезаря не будет; а будет все тот же Прюдом с Робеспиером. Кстати, не согласитесь ли вы со мною: как жалко, что Шекспир не написал «Каталины»!
– А вы высокого мнения о Шекспире, несмотря на то, что он поэт?
– Да. Он был человек, счастливо рожденный – и с дарованием. Он умел видеть в одно и то же время и белое и черное, что очень редко; и ни за белое не стоял, ни за черное – что еще реже. Вот еще хорошую вещь он написал – «Кориолана»! Лучшая его пиеса!
Мне тотчас же припомнились мои догадки насчет аристократизма мусье Франсуа.
– Вам «Кориолан», может быть, оттого так нравится, что в этой трагедии Шекспир очень непочтительно, почти презрительно отзывается о народе, о черни?
– Нет, – возразил мусье Франсуа. – Я чернь не презираю; я вообще народ не презираю. Прежде чем презирать других, надо бы начать с самого себя… что со мной случается лишь урывками… когда мне есть нечего, – прибавил он, понизив голос и сумрачно насупив брови. – Презирать народ?! С какой стати? Народ – то же, что земля. Хочу, пашу ее… и она меня кормит; хочу, оставляю ее под паром. Она меня носит – а я ее попираю. Правда, иногда она вдруг возьмет да встряхнется, как мокрый пудель, и повалит все, что мы на ней настроили, – все наши карточные домики. Да ведь это, в сущности, редко случается – эти землетрясения-то. С другой стороны, я очень хорошо знаю, что в конце концов она меня поглотит… И народ меня поглотит тоже. Этому помочь нельзя. А презирать народ? Презирать молено только то, что при других условиях следует уважать. А тут ни тому, ни другому чувству места нет. Тут надо пользоваться умеючи. Всем уметь пользоваться – вот что надо.
– А позвольте спросить – вы умели пользоваться? Мусье Франсуа вздохнул.
– Нет; не умел.
– Неужели?
– Не умел, говорят вам. Вы вот смотрите на меня и, пожалуй, думаете: «Ты, мол, пророчишь, что скоро во Франции настанут перевороты… вот тут тебе и ловить рыбу – в мутной-то воде». Но щука не в мутной воде ловит рыбу. А я даже не щука!
Он круто повернулся на стуле и ударил кулаком по его спинке.
– Нет! ничем я не умел пользоваться, а то бы я не в таком виде предстал перед вами! – Он указал на всего себя беглым движением руки. – Я бы тогда, может быть, совсем не познакомился с вами… О чем я бы очень сожалел, – прибавил он с натянутой улыбкой. – И я бы не жил там, в том чердаке, где я живу, – не имел бы возможности, вставая поутру и бросая взгляд на море крыш и труб Парижа, повторять восклицание Югурты: «Urbs venalis!»[5 - «Продажный город!» (лат.)] Гм. Да; а был бы я сам, как этот город, не был бы я в теперешнем положении; не было бы этой нужды да бедности…
«Вот когда он у меня денег попросит», – подумалось мне. Но он умолк, уронил голову на грудь и начал чертить по песку концом палки. Потом он опять глубоко-глубоко вздохнул, снял очки, достал старый клетчатый платок из заднего кармана, свернул его в клубочек и провел им раза два по лбу, высоко поднимая локоть.
– Да, – промолвил он наконец чуть слышно, – жизнь – печальная штука; печальная штука жизнь, милостивый государь мой. Одно утешает меня, а именно то, что я умру скоро – и непременно насильственной смертью. («И не будешь королем?» – чуть не сорвалось у меня с языка; но я удержался.) Да, насильственной смертью. Вы посмотрите на это (он поднес ко мне левую руку, в которой держал очки, ладонью кверху – и, не выпуская платка, положил на нее указательный палец правой… неопрятны были обе). – Вы видите эту черту, пересекающую жизненную линию?
– Вы хиромантик? – спросил я.
– Вы видите эту черту? – настойчиво повторил он. – Стало быть, я прав. – А вы наперед знайте, милостивый государь, если, находясь в таком месте, где вам меньше всего бы следовало вспоминать обо мне, вы все-таки обо мне вспомните – знайте: меня не стало.
Он опять понурился и руку с платком уронил на колено; другая с очками повисла, как плетка. Я воспользовался тем, что глаза мусье Франсуа были опущены – не смущали меня, – и внимательнее прежнего посмотрел на него. Он мне вдруг показался таким стариком; такая усталость сказывалась в наклоне его спины и плечей, в самой постановке его больших плоских ног, обутых в заплатанные сапоги; так горько стиснулись губы, так глубоко ввалились небритые щеки, так хило поникла тощая шея, так уныло повис клок поседелых волос на изрытый морщинами лоб… «Несчастный, жалкий ты человек, – решил я тут же про себя, – несчастный во всех твоих начинаниях и предприятиях, в семейных и всяческих делах. Если ты был женат – жена тебя обманула и бросила; а если у тебя есть дети – ты их не видишь и не знаешь…»
Громкое восклицание на русском языке прервало мои размышления: кто-то звал меня. Я обернулся и в двух шагах от себя увидел всем известного А. И. Г<ерцена>, проживавшего тогда в Париже. Я встал и подошел к нему.
– С кем ты это сидишь? – начал он, нисколько не умеряя своего звонкого голоса. – Что за фигура?
– А что?
– Да, помилуй, это шпион. Непременно шпион.
– Ты разве его знаешь?
– Вовсе не знаю; да стоит только взглянуть на него. Вся ихняя манера. Охота тебе с ним якшаться. Смотри берегись!
Я ничего не ответил А. И. Г<ерцену>. Но так как я знал, что при всем его блестящем и проницательном уме понимание людей, особенно на первых порах, у него было слабое; так как я хорошо помнил, что за его гостеприимным и радушным столом попадались иногда самые неблаговидные личности, личности, которые возбуждали его доверчивую симпатию двумя-тремя сочувственными словами и которые впоследствии оказывались действительными… агентами, как он это сам потом рассказал в своих записках, то я и не придал особенной важности его предостереженью и, поблагодарив его за дружескую заботливость, вернулся к своему мусье Франсуа. Тот сидел по-прежнему, неподвижный и понурый.
– Что я хотел сказать вам, – заговорил он, как только я уселся возле него. – За вами, господа русские, водится дурная привычка. Вы на улице, перед чужими, перед французами, говорите громко между собою по-русски – словно вы уверены, что никто вас не поймет. А это неосторожно. Вот я, например, все понял, что сказал ваш приятель.
Я невольно покраснел.
– Пожалуйста, не думайте… – начал я. – Конечно… мой приятель…
– Я его знаю, – перебил меня мусье Франсуа, – он человек весьма остроумный… Но «errare humanum est»[6 - «Человеку свойственно ошибаться» (лат.)] (мусье Франсуа, очевидно, любил щегольнуть латынью). Судя по моей наружности, можно предполагать обо мне… все что угодно. Но только позвольте спросить вас: если даже я был бы тем, чем меня назвал ваш приятель, какая была бы мне польза выслеживать вас?