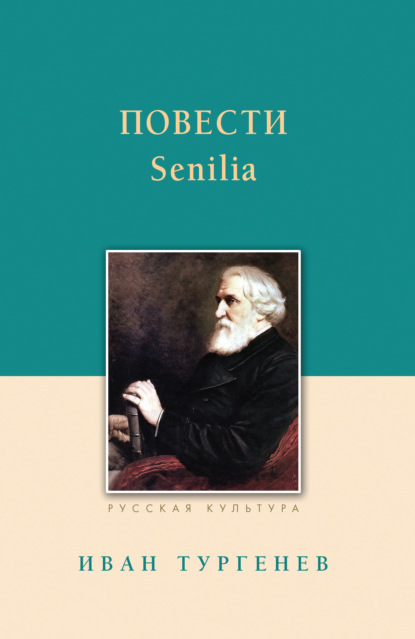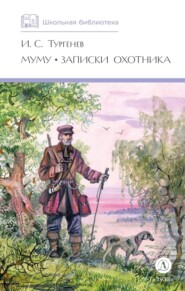По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Повести. Senilia
Автор
Жанр
Год написания книги
2021
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я не так выразилась, – промолвила она, – я хотела сказать: что за охота мечтать о самой себе, о своем счастии? О нем думать нечего; оно не приходит – что за ним гоняться! Оно как здоровье: когда его не замечаешь, значит, оно есть.
Эти слова меня удивили. В этой женщине великая душа, поверь мне… От Венеции разговор перешел к Италии, к итальянцам. Приимков вышел, мы с Верой остались одни.
– И в ваших жилах течет итальянская кровь, – заметил я.
– Да, – возразила она, – хотите, я покажу вам портрет моей бабушки?
– Сделайте одолжение.
Она пошла в свой кабинет и принесла оттуда довольно большой золотой медальон. Раскрыв этот медальон, я увидел превосходно написанные миниатюрные портреты отца Ельцовой и его жены – этой крестьянки из Альбано. Дед Веры поразил меня сходством с своей дочерью. Только черты у него, окаймленные белым облаком пудры, казались еще строже, заостреннее и резче, а в маленьких желтых глазах просвечивало какое-то угрюмое упрямство. Но что за лицо было у итальянки! сладострастное, раскрытое, как расцветшая роза, с большими влажными глазами навыкате и самодовольно улыбавшимися, румяными губами! Тонкие чувственные ноздри, казалось, дрожали и расширялись, как после недавних поцелуев; от смуглых щек так и веяло зноем и здоровьем, роскошью молодости и женской силы… Этот лоб не мыслил никогда, да и слава Богу! Она нарисована в своем альбанском наряде; живописец (мастер!) поместил виноградную ветку в ее волосах, черных, как смоль, с ярко-серыми отблесками: это вакхическое украшение идет как нельзя более к выражению ее лица. И знаешь ли, кого мне напоминало это лицо? Мою Манон Леско в черной рамке. И что всего удивительнее: глядя на этот портрет, я вспомнил, что у Веры, несмотря на совершенное несходство очертаний, мелькает иногда что-то похожее на эту улыбку, на этот взгляд…
Да, повторяю: ни она сама, ни другой кто на свете не знает еще всего, что таится в ней…
Кстати! Ельцова, перед свадьбой своей дочери, рассказала ей всю свою жизнь, смерть своей матери и т. д., вероятно, с поучительною целью. На Веру особенно подействовало то, что она услыхала о деде, об этом таинственном Ладанове. Не от этого ли она верит в привидения? Странно! сама она такая чистая и светлая, а боится всего мрачного, подземного и верит в него…
Но довольно. К чему писать все это? Впрочем, так как оно уже написалось, то пусть и отправляется к тебе.
Твой П. Б.
Письмо седьмое
От того же к тому же
Сельцо М…ое, 22 августа
Берусь за перо спустя десять дней после последнего письма… О, мой друг, я не могу скрываться более… Как мне тяжело! как я ее люблю! Ты можешь себе представить, с каким горьким содроганьем пишу я это роковое слово. Я не мальчик, даже не юноша; я уже не в той поре, когда обмануть другого почти невозможно, а самого себя обмануть ничего не стоит. Я все знаю и вижу ясно. Я знаю, что мне под сорок лет, что она жена другого, что она любит своего мужа; я очень хорошо знаю, что от несчастного чувства, которое мною овладело, мне, кроме тайных терзаний и окончательной растраты жизненных сил, ожидать нечего, – я все это знаю, я ни на что не надеюсь и ничего не хочу; но от этого мне не легче. Уже с месяц тому назад начал я замечать, что влечение мое к ней становилось все сильней и сильней. Это меня отчасти смущало, отчасти даже радовало… Но мог ли я ожидать, что со мною повторится все то, чему, казалось, так же как и молодости, нет возврата? Да что я говорю! Так я никогда не любил, нет, никогда! Манон Леско, Фретильоны – вот были мои кумиры. Такие кумиры разбить легко; а теперь… я только теперь узнал, что значит полюбить женщину. Стыдно мне даже говорить об этом; но оно так. Стыдно мне… Любовь все-таки эгоизм; а в мои годы эгоистом быть непозволительно: нельзя в тридцать семь лет жить для себя; должно жить с пользой, с целью на земле, исполнять свой долг, свое дело. И я принялся было за работу… Вот опять все развеяно, как вихрем! Теперь я понимаю, о чем я писал тебе в первом моем письме; я понимаю, какого испытания мне недоставало. Как внезапно обрушился этот удар на мою голову! Стою и бессмысленно гляжу вперед: черная завеса висит перед самыми глазами; на душе тяжело и страшно! Я могу себя сдерживать, я наружно спокоен не только при других, даже наедине; не бесноваться же мне в самом деле, как мальчику! Но червь вполз в мое сердце и сосет его днем и ночью. Чем это кончится? До сих пор я в ее отсутствие тосковал и волновался и при ней утихал тотчас… Теперь я и при ней непокоен – вот что меня пугает. О, друг мой, как тяжело стыдиться слез своих, скрывать их!.. Одной молодости позволительно плакать; слезы идут к ней одной…
Я не могу перечесть это письмо; оно у меня вырвалось невольно, как стон. Я не могу ничего прибавить, ничего рассказать… Дай срок: я приду в себя, овладею своею душою, я буду говорить с тобою, как мужчина, а теперь мне бы хотелось прислонить мою голову к твоей груди и…
О Мефистофель! и ты мне не помогаешь. Я остановился с намерением, с намерением раздражал в себе ироническую жилу, напоминал самому себе, как смешны и приторны покажутся мне через год, через полгода эти жалобы, эти излияния… Нет, Мефистофель бессилен, и зуб его притупел… Прощай.
Твой П. Б.
Письмо восьмое
От того же к тому же
Сельцо М…ое, 8 сентября 1850
Любезный друг мой, Семен Николаич!
Ты слишком к сердцу принял мое последнее письмо. Ты знаешь, как я всегда был склонен к преувеличиванию моих ощущений. Это у меня как-то невольно делается: бабья натура! С годами это, конечно, пройдет; но, признаюсь со вздохом, до сих пор я все еще не исправился. А потому успокойся. Не буду отрицать впечатления, произведенного на меня Верой, но опять-таки скажу: во всем этом нет ничего необыкновенного. Приезжать тебе сюда, как ты пишешь, совсем не следует. Скакать за тысячу верст Бог знает из-за чего – да это было бы безумие! Но я очень благодарен тебе за это новое доказательство твоей дружбы и, поверь мне, никогда его не забуду. Твое путешествие сюда потому еще неуместно, что я сам скоро намерен выехать в Петербург. Сидя на твоем диване, я расскажу тебе много, а теперь, право, не хочется: чего доброго, опять разболтаюсь и напутаю. Перед выездом я тебе еще напишу. Итак, до скорого свидания. Будь здоров и весел и не сокрушайся слишком об участи – преданного тебе П. Б.
Письмо девятое
От того же к тому же
Село П…ое, 10 марта 1853
Я долго не отвечал на твое письмо; я все эти дни думал о нем. Я чувствовал, что оно внушено тебе не праздным любопытством, а истинным дружеским участием; но я все-таки колебался: последовать ли мне твоему совету, исполнить ли твое желание? Наконец, я решился, я все расскажу тебе. Облегчит ли меня моя исповедь, как ты полагаешь, не знаю; но мне кажется, что я не вправе скрыть от тебя то, что навсегда изменило жизнь мою; мне кажется, что я даже остался бы виновным… увы! еще более виновным перед той незабвенной, милой тенью, если б я не поверил печальной нашей тайны единственному сердцу, которым я еще дорожу. Ты один, может быть, на земле помнишь о Вере, и ты судишь о ней легкомысленно и ложно: этого я допустить не могу. Узнай же все. Увы! это все можно передать двумя словами. То, что было между нами, промелькнуло мгновенно, как молния, и как молния принесло смерть и гибель…
С тех пор как ее не стало, с тех пор как я поселился в эту глушь, которой уже не покину до конца дней моих, прошло с лишком два года, и все так ясно в моей памяти, так еще живы мои раны, так горько мое горе…
Я не стану жаловаться. Жалобы, раздражая, утоляют печаль, но не мою. Стану рассказывать.
Помнишь ты мое последнее письмо – то письмо, в котором я вздумал было рассеять твои опасения и отсоветовал тебе выезжать из Петербурга? Ты заподозрил его принужденную развязность, ты не поверил нашему скорому свиданию: ты был прав. Накануне того дня, когда я написал к тебе, я узнал, что я любим.
Начертав эти слова, я понял, как трудно мне будет продолжить мой рассказ до конца. Неотступная мысль об ее смерти будет терзать меня с удвоенной силой, меня будут жечь эти воспоминания… Но я постараюсь совладать с собою и либо брошу писать, либо не скажу ненужного слова.
Вот как я узнал, что Вера меня любит. Прежде всего я должен тебе сказать (и ты мне поверишь), что до того дня я решительно ничего не подозревал. Правда, она иногда стала задумываться, чего с ней прежде не бывало; но я не понимал, отчего это с ней делалось. Наконец, в один день, седьмого сентября, – памятный для меня день – вот что случилось. Ты знаешь, как я любил ее и как мне было тяжело. Я бродил, как тень, места не мог найти. Я хотел было остаться дома, но не вытерпел и отправился к ней. Я застал ее одну в кабинете. Приимкова не было дома: он уехал на охоту. Когда я вошел к Вере, она пристально посмотрела на меня и не ответила на мой поклон. Она сидела у окна; на коленях у ней лежала книга, которую я узнал тотчас: это был мой «Фауст». Лицо ее выражало усталость. Я сел против нее. Она попросила меня прочесть вслух ту сцену Фауста с Гретхен, где она спрашивает его, верит ли он в Бога. Я взял книгу и начал читать. Когда я кончил, я взглянул на нее. Прислонив голову к спинке кресел и скрестив на груди руки, она все так же пристально смотрела на меня.
Не знаю, отчего у меня сердце вдруг забилось.
– Что вы со мной сделали! – проговорила она медленным голосом.
– Как? – произнес я c смущением.
– Да, что вы со мной сделали! – повторила она.
– Вы хотите сказать, – начал я, – зачем я убедил вас читать такие книги? Она встала молча и пошла вон из комнаты. Я глядел за нею вслед.
На пороге двери она остановилась и обернулась ко мне.
– Я вас люблю, – сказала она, – вот что вы со мной сделали.
Кровь мне бросилась в голову…
– Я вас люблю, я в вас влюблена, – повторила Вера.
Она ушла и заперла за собою дверь. Не стану тебе описывать, что произошло тогда со мной. Помню, я вышел в сад, забрался в глушь, прислонился к дереву, и сколько я там простоял, сказать не могу. Я словно замер; чувство блаженства по временам волной пробегало по сердцу… Нет, не стану говорить об этом. Голос Приимкова вызвал меня из оцепененья; ему послали сказать, что я приехал: он вернулся с охоты и искал меня. Он изумился, найдя меня в саду одного, без шляпы, и повел меня в дом. «Жена в гостиной, – промолвил он, – пойдемте к ней». Ты можешь себе представить, с какими чувствами переступил я порог гостиной. Вера сидела в углу, за пяльцами; я взглянул на нее украдкой и долго потом не поднимал глаз. К удивлению моему, она казалась спокойной; в том, что она говорила, в звуке ее голоса не слышалось тревоги. Я наконец решился посмотреть на нее. Взоры наши встретились… Она чуть-чуть покраснела и наклонилась над канвой. Я стал наблюдать за нею. Она как будто недоумевала; невеселая усмешка изредка трогала ее губы.
Приимков вышел. Она вдруг подняла голову и довольно громко спросила меня:
– Что вы теперь намерены сделать?
Я смутился и торопливо, глухим голосом, отвечал, что намерен исполнить долг честного человека – удалиться, «потому что, – прибавил я, – я вас люблю, Вера Николаевна, вы, вероятно, давно это заметили». Она опять наклонилась к канве и задумалась.
– Я должна переговорить с вами, – промолвила она, – приходите сегодня вечером после чаю в наш домик… знаете, где вы читали «Фауста».
Она сказала это так внятно, что я и теперь не постигаю, каким образом Приимков, который в это самое мгновенье входил в комнату, не слыхал ничего. Тихо, томительно тихо прошел этот день. Вера иногда озиралась с таким выражением, как будто спрашивала себя: не во сне ли она? И в то же время на лице ее была написана решимость. А я… я не мог прийти в себя. Вера меня любит! Эти слова беспрестанно вращались в моем уме; но я не понимал их, – ни себя не понимал я, ни ее. Я не верил такому неожиданному, такому потрясающему счастию; с усилием припоминал прошедшее и тоже глядел, говорил, как во сне…
После чаю, когда я уже начинал думать о том, как бы незаметно выскользнуть из дома, она сама вдруг объявила, что хочет идти гулять, и предложила мне проводить ее. Я встал, взял шляпу и побрел за ней. Я не смел заговорить, я едва дышал, я ждал ее первого слова, ждал объяснений; но она молчала. Молча дошли мы до китайского домика, молча вошли в него, и тут – я до сих пор не знаю, не могу понять, как это сделалось – мы внезапно очутились в объятиях друг друга. Какая-то невидимая сила бросила меня к ней, ее – ко мне. При потухающем свете дня ее лицо, с закинутыми назад кудрями, мгновенно озарилось улыбкой самозабвения и неги, и наши губы слились в поцелуй…
Этот поцелуй был первым и последним.
Вера вдруг вырвалась из рук моих и, с выражением ужаса в расширенных глазах, отшатнулась назад…
– Оглянитесь, – сказала она мне дрожащим голосом, – вы ничего не видите?
Эти слова меня удивили. В этой женщине великая душа, поверь мне… От Венеции разговор перешел к Италии, к итальянцам. Приимков вышел, мы с Верой остались одни.
– И в ваших жилах течет итальянская кровь, – заметил я.
– Да, – возразила она, – хотите, я покажу вам портрет моей бабушки?
– Сделайте одолжение.
Она пошла в свой кабинет и принесла оттуда довольно большой золотой медальон. Раскрыв этот медальон, я увидел превосходно написанные миниатюрные портреты отца Ельцовой и его жены – этой крестьянки из Альбано. Дед Веры поразил меня сходством с своей дочерью. Только черты у него, окаймленные белым облаком пудры, казались еще строже, заостреннее и резче, а в маленьких желтых глазах просвечивало какое-то угрюмое упрямство. Но что за лицо было у итальянки! сладострастное, раскрытое, как расцветшая роза, с большими влажными глазами навыкате и самодовольно улыбавшимися, румяными губами! Тонкие чувственные ноздри, казалось, дрожали и расширялись, как после недавних поцелуев; от смуглых щек так и веяло зноем и здоровьем, роскошью молодости и женской силы… Этот лоб не мыслил никогда, да и слава Богу! Она нарисована в своем альбанском наряде; живописец (мастер!) поместил виноградную ветку в ее волосах, черных, как смоль, с ярко-серыми отблесками: это вакхическое украшение идет как нельзя более к выражению ее лица. И знаешь ли, кого мне напоминало это лицо? Мою Манон Леско в черной рамке. И что всего удивительнее: глядя на этот портрет, я вспомнил, что у Веры, несмотря на совершенное несходство очертаний, мелькает иногда что-то похожее на эту улыбку, на этот взгляд…
Да, повторяю: ни она сама, ни другой кто на свете не знает еще всего, что таится в ней…
Кстати! Ельцова, перед свадьбой своей дочери, рассказала ей всю свою жизнь, смерть своей матери и т. д., вероятно, с поучительною целью. На Веру особенно подействовало то, что она услыхала о деде, об этом таинственном Ладанове. Не от этого ли она верит в привидения? Странно! сама она такая чистая и светлая, а боится всего мрачного, подземного и верит в него…
Но довольно. К чему писать все это? Впрочем, так как оно уже написалось, то пусть и отправляется к тебе.
Твой П. Б.
Письмо седьмое
От того же к тому же
Сельцо М…ое, 22 августа
Берусь за перо спустя десять дней после последнего письма… О, мой друг, я не могу скрываться более… Как мне тяжело! как я ее люблю! Ты можешь себе представить, с каким горьким содроганьем пишу я это роковое слово. Я не мальчик, даже не юноша; я уже не в той поре, когда обмануть другого почти невозможно, а самого себя обмануть ничего не стоит. Я все знаю и вижу ясно. Я знаю, что мне под сорок лет, что она жена другого, что она любит своего мужа; я очень хорошо знаю, что от несчастного чувства, которое мною овладело, мне, кроме тайных терзаний и окончательной растраты жизненных сил, ожидать нечего, – я все это знаю, я ни на что не надеюсь и ничего не хочу; но от этого мне не легче. Уже с месяц тому назад начал я замечать, что влечение мое к ней становилось все сильней и сильней. Это меня отчасти смущало, отчасти даже радовало… Но мог ли я ожидать, что со мною повторится все то, чему, казалось, так же как и молодости, нет возврата? Да что я говорю! Так я никогда не любил, нет, никогда! Манон Леско, Фретильоны – вот были мои кумиры. Такие кумиры разбить легко; а теперь… я только теперь узнал, что значит полюбить женщину. Стыдно мне даже говорить об этом; но оно так. Стыдно мне… Любовь все-таки эгоизм; а в мои годы эгоистом быть непозволительно: нельзя в тридцать семь лет жить для себя; должно жить с пользой, с целью на земле, исполнять свой долг, свое дело. И я принялся было за работу… Вот опять все развеяно, как вихрем! Теперь я понимаю, о чем я писал тебе в первом моем письме; я понимаю, какого испытания мне недоставало. Как внезапно обрушился этот удар на мою голову! Стою и бессмысленно гляжу вперед: черная завеса висит перед самыми глазами; на душе тяжело и страшно! Я могу себя сдерживать, я наружно спокоен не только при других, даже наедине; не бесноваться же мне в самом деле, как мальчику! Но червь вполз в мое сердце и сосет его днем и ночью. Чем это кончится? До сих пор я в ее отсутствие тосковал и волновался и при ней утихал тотчас… Теперь я и при ней непокоен – вот что меня пугает. О, друг мой, как тяжело стыдиться слез своих, скрывать их!.. Одной молодости позволительно плакать; слезы идут к ней одной…
Я не могу перечесть это письмо; оно у меня вырвалось невольно, как стон. Я не могу ничего прибавить, ничего рассказать… Дай срок: я приду в себя, овладею своею душою, я буду говорить с тобою, как мужчина, а теперь мне бы хотелось прислонить мою голову к твоей груди и…
О Мефистофель! и ты мне не помогаешь. Я остановился с намерением, с намерением раздражал в себе ироническую жилу, напоминал самому себе, как смешны и приторны покажутся мне через год, через полгода эти жалобы, эти излияния… Нет, Мефистофель бессилен, и зуб его притупел… Прощай.
Твой П. Б.
Письмо восьмое
От того же к тому же
Сельцо М…ое, 8 сентября 1850
Любезный друг мой, Семен Николаич!
Ты слишком к сердцу принял мое последнее письмо. Ты знаешь, как я всегда был склонен к преувеличиванию моих ощущений. Это у меня как-то невольно делается: бабья натура! С годами это, конечно, пройдет; но, признаюсь со вздохом, до сих пор я все еще не исправился. А потому успокойся. Не буду отрицать впечатления, произведенного на меня Верой, но опять-таки скажу: во всем этом нет ничего необыкновенного. Приезжать тебе сюда, как ты пишешь, совсем не следует. Скакать за тысячу верст Бог знает из-за чего – да это было бы безумие! Но я очень благодарен тебе за это новое доказательство твоей дружбы и, поверь мне, никогда его не забуду. Твое путешествие сюда потому еще неуместно, что я сам скоро намерен выехать в Петербург. Сидя на твоем диване, я расскажу тебе много, а теперь, право, не хочется: чего доброго, опять разболтаюсь и напутаю. Перед выездом я тебе еще напишу. Итак, до скорого свидания. Будь здоров и весел и не сокрушайся слишком об участи – преданного тебе П. Б.
Письмо девятое
От того же к тому же
Село П…ое, 10 марта 1853
Я долго не отвечал на твое письмо; я все эти дни думал о нем. Я чувствовал, что оно внушено тебе не праздным любопытством, а истинным дружеским участием; но я все-таки колебался: последовать ли мне твоему совету, исполнить ли твое желание? Наконец, я решился, я все расскажу тебе. Облегчит ли меня моя исповедь, как ты полагаешь, не знаю; но мне кажется, что я не вправе скрыть от тебя то, что навсегда изменило жизнь мою; мне кажется, что я даже остался бы виновным… увы! еще более виновным перед той незабвенной, милой тенью, если б я не поверил печальной нашей тайны единственному сердцу, которым я еще дорожу. Ты один, может быть, на земле помнишь о Вере, и ты судишь о ней легкомысленно и ложно: этого я допустить не могу. Узнай же все. Увы! это все можно передать двумя словами. То, что было между нами, промелькнуло мгновенно, как молния, и как молния принесло смерть и гибель…
С тех пор как ее не стало, с тех пор как я поселился в эту глушь, которой уже не покину до конца дней моих, прошло с лишком два года, и все так ясно в моей памяти, так еще живы мои раны, так горько мое горе…
Я не стану жаловаться. Жалобы, раздражая, утоляют печаль, но не мою. Стану рассказывать.
Помнишь ты мое последнее письмо – то письмо, в котором я вздумал было рассеять твои опасения и отсоветовал тебе выезжать из Петербурга? Ты заподозрил его принужденную развязность, ты не поверил нашему скорому свиданию: ты был прав. Накануне того дня, когда я написал к тебе, я узнал, что я любим.
Начертав эти слова, я понял, как трудно мне будет продолжить мой рассказ до конца. Неотступная мысль об ее смерти будет терзать меня с удвоенной силой, меня будут жечь эти воспоминания… Но я постараюсь совладать с собою и либо брошу писать, либо не скажу ненужного слова.
Вот как я узнал, что Вера меня любит. Прежде всего я должен тебе сказать (и ты мне поверишь), что до того дня я решительно ничего не подозревал. Правда, она иногда стала задумываться, чего с ней прежде не бывало; но я не понимал, отчего это с ней делалось. Наконец, в один день, седьмого сентября, – памятный для меня день – вот что случилось. Ты знаешь, как я любил ее и как мне было тяжело. Я бродил, как тень, места не мог найти. Я хотел было остаться дома, но не вытерпел и отправился к ней. Я застал ее одну в кабинете. Приимкова не было дома: он уехал на охоту. Когда я вошел к Вере, она пристально посмотрела на меня и не ответила на мой поклон. Она сидела у окна; на коленях у ней лежала книга, которую я узнал тотчас: это был мой «Фауст». Лицо ее выражало усталость. Я сел против нее. Она попросила меня прочесть вслух ту сцену Фауста с Гретхен, где она спрашивает его, верит ли он в Бога. Я взял книгу и начал читать. Когда я кончил, я взглянул на нее. Прислонив голову к спинке кресел и скрестив на груди руки, она все так же пристально смотрела на меня.
Не знаю, отчего у меня сердце вдруг забилось.
– Что вы со мной сделали! – проговорила она медленным голосом.
– Как? – произнес я c смущением.
– Да, что вы со мной сделали! – повторила она.
– Вы хотите сказать, – начал я, – зачем я убедил вас читать такие книги? Она встала молча и пошла вон из комнаты. Я глядел за нею вслед.
На пороге двери она остановилась и обернулась ко мне.
– Я вас люблю, – сказала она, – вот что вы со мной сделали.
Кровь мне бросилась в голову…
– Я вас люблю, я в вас влюблена, – повторила Вера.
Она ушла и заперла за собою дверь. Не стану тебе описывать, что произошло тогда со мной. Помню, я вышел в сад, забрался в глушь, прислонился к дереву, и сколько я там простоял, сказать не могу. Я словно замер; чувство блаженства по временам волной пробегало по сердцу… Нет, не стану говорить об этом. Голос Приимкова вызвал меня из оцепененья; ему послали сказать, что я приехал: он вернулся с охоты и искал меня. Он изумился, найдя меня в саду одного, без шляпы, и повел меня в дом. «Жена в гостиной, – промолвил он, – пойдемте к ней». Ты можешь себе представить, с какими чувствами переступил я порог гостиной. Вера сидела в углу, за пяльцами; я взглянул на нее украдкой и долго потом не поднимал глаз. К удивлению моему, она казалась спокойной; в том, что она говорила, в звуке ее голоса не слышалось тревоги. Я наконец решился посмотреть на нее. Взоры наши встретились… Она чуть-чуть покраснела и наклонилась над канвой. Я стал наблюдать за нею. Она как будто недоумевала; невеселая усмешка изредка трогала ее губы.
Приимков вышел. Она вдруг подняла голову и довольно громко спросила меня:
– Что вы теперь намерены сделать?
Я смутился и торопливо, глухим голосом, отвечал, что намерен исполнить долг честного человека – удалиться, «потому что, – прибавил я, – я вас люблю, Вера Николаевна, вы, вероятно, давно это заметили». Она опять наклонилась к канве и задумалась.
– Я должна переговорить с вами, – промолвила она, – приходите сегодня вечером после чаю в наш домик… знаете, где вы читали «Фауста».
Она сказала это так внятно, что я и теперь не постигаю, каким образом Приимков, который в это самое мгновенье входил в комнату, не слыхал ничего. Тихо, томительно тихо прошел этот день. Вера иногда озиралась с таким выражением, как будто спрашивала себя: не во сне ли она? И в то же время на лице ее была написана решимость. А я… я не мог прийти в себя. Вера меня любит! Эти слова беспрестанно вращались в моем уме; но я не понимал их, – ни себя не понимал я, ни ее. Я не верил такому неожиданному, такому потрясающему счастию; с усилием припоминал прошедшее и тоже глядел, говорил, как во сне…
После чаю, когда я уже начинал думать о том, как бы незаметно выскользнуть из дома, она сама вдруг объявила, что хочет идти гулять, и предложила мне проводить ее. Я встал, взял шляпу и побрел за ней. Я не смел заговорить, я едва дышал, я ждал ее первого слова, ждал объяснений; но она молчала. Молча дошли мы до китайского домика, молча вошли в него, и тут – я до сих пор не знаю, не могу понять, как это сделалось – мы внезапно очутились в объятиях друг друга. Какая-то невидимая сила бросила меня к ней, ее – ко мне. При потухающем свете дня ее лицо, с закинутыми назад кудрями, мгновенно озарилось улыбкой самозабвения и неги, и наши губы слились в поцелуй…
Этот поцелуй был первым и последним.
Вера вдруг вырвалась из рук моих и, с выражением ужаса в расширенных глазах, отшатнулась назад…
– Оглянитесь, – сказала она мне дрожащим голосом, – вы ничего не видите?