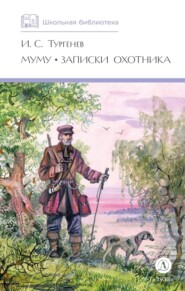По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собрание повестей и рассказов в одном томе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы вошли в дом. Молодой малый, в длинном кафтане из синего толстого сукна, встретил нас на крыльце. Радилов тотчас приказал ему поднести водки Ермолаю; мой охотник почтительно поклонился спине великодушного дателя. Из передней, заклеенной разными пестрыми картинами, завешенной клетками, вошли мы в небольшую комнатку – кабинет Радилова. Я снял свои охотничьи доспехи, поставил ружье в угол; малый в длиннополом сюртуке хлопотливо обчистил меня.
– Ну, теперь пойдемте в гостиную, – ласково проговорил Радилов, – я вас познакомлю с моей матушкой.
Я пошел за ним. В гостиной, на середнем диване, сидела старушка небольшого росту, в коричневом платье и белом чепце, с добреньким и худеньким лицом, робким и печальным взглядом.
– Вот, матушка, рекомендую: сосед наш ***.
Старушка привстала и поклонилась мне, не выпуская из сухощавых рук толстого гарусного ридикюля в виде мешка.
– Давно вы пожаловали в нашу сторону? – спросила она слабым и тихим голосом, помаргивая глазами.
– Нет-с, недавно.
– Долго намерены здесь остаться?
– Думаю, до зимы.
Старушка замолчала.
– А вот это, – подхватил Радилов, указывая мне на человека высокого и худого, которого я при входе в гостиную не заметил, – это Федор Михеич… Ну-ка, Федя, покажи свое искусство гостю. Что ты забился в угол-то?
Федор Михеич тотчас поднялся со стула, достал с окна дрянненькую скрипку, взял смычок – не за конец, как следует, а за середину, прислонил скрипку к груди, закрыл глаза и пустился в пляс, напевая песенку и пиликая по струнам. Ему на вид было лет семьдесят; длинный нанковый сюртук печально болтался на сухих и костлявых его членах. Он плясал; то с удальством потряхивал, то, словно замирая, поводил маленькой лысой головкой, вытягивал жилистую шею, топотал ногами на месте, иногда, с заметным трудом, сгибал колени. Его беззубый рот издавал дряхлый голос. Радилов, должно быть, догадался по выражению моего лица, что мне «искусство» Феди не доставляло большого удовольствия.
– Ну, хорошо, старина, полно, – проговорил он, – можешь пойти наградить себя.
Федор Михеич тотчас положил скрипку на окно, поклонился сперва мне, как гостю, потом старушке, потом Радилову и вышел вон.
– Тоже был помещик, – продолжал мой новый приятель, – и богатый, да разорился – и вот проживает теперь у меня… А в свое время считался первым по губернии хватом; двух жен от мужей увез, песельников держал, сам певал и плясал мастерски… Но не прикажете ли водки? Ведь уж обед на столе.
Молодая девушка, та самая, которую я мельком видел в саду, вошла в комнату.
– А вот и Оля! – заметил Радилов, слегка отвернув голову. – Прошу любить и жаловать… Ну, пойдемте обедать.
Мы отправились в столовую, сели. Пока мы шли из гостиной и садились, Федор Михеич, у которого от «награды» глазки засияли и нос слегка покраснел, пел: «Гром победы раздавайся!» Ему поставили особый прибор в углу на маленьком столике без салфетки. Бедный старик не мог похвалиться опрятностью, и потому его постоянно держали в некотором отдалении от общества. Он перекрестился, вздохнул и начал есть, как акула. Обед был действительно недурен и, в качестве воскресного, не обошелся без трепещущего желе и испанских ветров (пирожного). За столом Радилов, который лет десять служил в армейском пехотном полку и в Турцию ходил, пустился в рассказы; я слушал его со вниманием и украдкой наблюдал за Ольгой. Она не очень была хороша собой; но решительное и спокойное выражение ее лица, ее широкий белый лоб, густые волосы и, в особенности, карие глаза, небольшие, но умные, ясные и живые, поразили бы и всякого другого на моем месте. Она как будто следила за каждым словом Радилова; не участие, – страстное внимание изображалось на ее лице. Радилов, по летам, мог бы быть ее отцом; он говорил ей «ты», но я тотчас догадался, что она не была его дочерью. В течение разговора он упомянул о своей покойной жене – «ее сестра», – прибавил он, указав на Ольгу. Она быстро покраснела и опустила глаза. Радилов помолчал и переменил разговор. Старушка во весь обед не произнесла слова, сама почти ничего не ела и меня не потчевала. Ее черты дышали каким-то боязливым и безнадежным ожиданьем, той старческой грустью, от которой так мучительно сжимается сердце зрителя. К концу обеда Федор Михеич начал было «славить» хозяев и гостя, но Радилов взглянул на меня и попросил его замолчать; старик провел рукой по губам, заморгал глазами, поклонился и присел опять, но уже на самый край стула. После обеда мы с Радиловым отправились в его кабинет.
В людях, которых сильно и постоянно занимает одна мысль или одна страсть, заметно что-то общее, какое-то внешнее сходство в обращенье, как бы ни были, впрочем, различны их качества, способности, положение в свете и воспитание. Чем более я наблюдал за Радиловым, тем более мне казалось, что он принадлежал к числу таких людей. Он говорил о хозяйстве, об урожае, покосе, о войне, уездных сплетнях и близких выборах, говорил без принужденья, даже с участьем, но вдруг вздыхал и опускался в кресла, как человек, утомленный тяжкой работой, проводил рукой по лицу. Вся душа его, добрая и теплая, казалось, была проникнута насквозь, пресыщена одним чувством. Меня поражало уже то, что я не мог в нем открыть страсти ни к еде, ни к вину, ни к охоте, ни к курским соловьям, ни к голубям, страдающим падучей болезнью, ни к русской литературе, ни к иноходцам, ни к венгеркам, ни к карточной и биллиардной игре, ни к танцевальным вечерам, ни к поездкам в губернские и столичные города, ни к бумажным фабрикам и свеклосахарным заводам, ни к раскрашенным беседкам, ни к чаю, ни к доведенным до разврата пристяжным, ни даже к толстым кучерам, подпоясанным под самыми мышками, к тем великолепным кучерам, у которых, бог знает почему, от каждого движения шеи глаза косятся и лезут вон… «Что ж это за помещик, наконец!» – думал я. А между тем он вовсе не прикидывался человеком мрачным и своею судьбою недовольным; напротив, от него так и веяло неразборчивым благоволеньем, радушьем и почти обидной готовностью сближенья с каждым встречным и поперечным. Правда, вы в то же самое время чувствовали, что подружиться, действительно сблизиться он ни с кем не мог, и не мог не оттого, что вообще не нуждался в других людях, а оттого, что вся жизнь его ушла на время внутрь. Вглядываясь в Радилова, я никак не мог себе представить его счастливым ни теперь, ни когда-нибудь. Красавцем он тоже не был; но в его взоре, в улыбке, во всем его существе таилось что-то чрезвычайно привлекательное, – именно таилось. Так, кажется, и хотелось бы узнать его получше, полюбить его. Конечно, в нем иногда высказывался помещик и степняк; но человек он все-таки был славный.
Мы начали было толковать с ним о новом уездном предводителе, как вдруг у двери раздался голос Ольги: «Чай готов». Мы пошли в гостиную. Федор Михеич по-прежнему сидел в своем уголку, между окошком и дверью, скромно подобрав ноги. Мать Радилова вязала чулок. Сквозь открытые окна из саду веяло осенней свежестью и запахом яблоков. Ольга хлопотливо разливала чай. Я с бо?льшим вниманием смотрел на нее теперь, чем за обедом. Она говорила очень мало, как вообще все уездные девицы, но в ней, по крайней мере, я не замечал желанья сказать что-нибудь хорошее, вместе с мучительным чувством пустоты и бессилия; она не вздыхала, словно от избытка неизъяснимых ощущений, не закатывала глаза под лоб, не улыбалась мечтательно и неопределенно. Она глядела спокойно и равнодушно, как человек, который отдыхает от большого счастья или от большой тревоги. Ее походка, ее движенья были решительны и свободны. Она мне очень нравилась.
Мы с Радиловым опять разговорились. Я уже не помню, каким путем мы дошли до известного замечанья: как часто самые ничтожные вещи производят большее впечатление на людей, чем самые важные.
– Да, – промолвил Радилов, – это я испытал на себе. Я, вы знаете, был женат. Не долго… три года; моя жена умерла от родов. Я думал, что не переживу ее; я был огорчен страшно, убит, но плакать не мог – ходил словно шальной. Ее, как следует, одели, положили на стол – вот в этой комнате. Пришел священник; дьячки пришли, стали петь, молиться, курить ладаном; я клал земные поклоны и хоть бы слезинку выронил. Сердце у меня словно окаменело и голова тоже, – и весь я отяжелел. Так прошел первый день. Верите ли? Ночью я заснул даже. На другое утро вошел я к жене, – дело было летом, солнце освещало ее с ног до головы, да так ярко. Вдруг я увидел… (Здесь Радилов невольно вздрогнул.) Что вы думаете? Глаз у нее не совсем был закрыт, и по этому глазу ходила муха… Я повалился, как сноп, и, как опомнился, стал плакать, плакать – унять себя не мог…
Радилов замолчал. Я посмотрел на него, потом на Ольгу… Ввек мне не забыть выражения ее лица. Старушка положила чулок на колени, достала из ридикюля платок и украдкой утерла слезу. Федор Михеич вдруг поднялся, схватил свою скрипку и хриплым и диким голосом затянул песенку. Он желал, вероятно, развеселить нас; но мы все вздрогнули от его первого звука, и Радилов попросил его успокоиться.
– Впрочем, – продолжал он, – что было, то было; прошлого не воротишь, да и наконец… все к лучшему в здешнем мире, как сказал, кажется, Во?лтер, – прибавил он поспешно.
– Да, – возразил я, – конечно. Притом всякое несчастье можно перенести, и нет такого скверного положения, из которого нельзя было бы выйти.
– Вы думаете? – заметил Радилов. – Что ж, может быть, вы правы. Я, помнится, в Турции лежал в госпитале, полумертвый: у меня была гнилая горячка. Ну, помещением мы похвалиться не могли, – разумеется, дело военное, – и то еще слава богу! Вдруг к нам еще приводят больных, – куда их положить? Лекарь туда, сюда, – нет места. Вот подошел он ко мне, спрашивает фельдшера: «Жив?» Тот отвечает: «Утром был жив». Лекарь нагнулся, слышит: дышу. Не вытерпел приятель. «Ведь экая натура-то дура, говорит, ведь вот умрет человек, ведь непременно умрет, а все скрипит, тянет, только место занимает да другим мешает». – «Ну, – подумал я про себя, – плохо тебе, Михайло Михайлыч…» А вот выздоровел и жив до сих пор, как изволите видеть. Стало быть, вы правы.
– Во всяком случае я прав, – отвечал я. – Если б вы даже и умерли, вы все-таки вышли бы из вашего скверного положения.
– Разумеется, разумеется, – прибавил он, внезапно и сильно ударив рукою по столу… – Стоит только решиться… Что толку в скверном положении?.. К чему медлить, тянуть…
Ольга быстро встала и вышла в сад.
– Ну-ка, Федя, плясовую! – воскликнул Радилов.
Федя вскочил, пошел по комнате той щеголеватой, особенной поступью, какою выступает известная «коза» около ручного медведя, и запел: «Как у наших у ворот…»
У подъезда раздался стук беговых дрожек, и через несколько мгновений вошел в комнату старик высокого росту, плечистый и плотный, однодворец Овсяников… Но Овсяников такое замечательное и оригинальное лицо, что мы, с позволения читателя, поговорим о нем в другом отрывке. А теперь я от себя прибавлю только то, что на другой же день мы с Ермолаем чем свет отправились на охоту, а с охоты домой, что через неделю я опять зашел к Радилову, но не застал ни его, ни Ольги дома, а через две недели узнал, что он внезапно исчез, бросил мать, уехал куда-то с своей золовкой. Вся губерния взволновалась и заговорила об этом происшествии, и я только тогда окончательно понял выражение Ольгина лица во время рассказа Радилова. Не одним состраданием дышало оно тогда: оно пылало также ревностью.
Перед моим отъездом из деревни я посетил старушку Радилову. Я нашел ее в гостиной; она играла с Федором Михеичем в дурачки.
– Имеете вы известие от вашего сына? – спросил я ее наконец.
Старушка заплакала. Я уже более не расспрашивал ее о Радилове.
Однодворец Овсяников
Представьте себе, любезные читатели, человека полного, высокого, лет семидесяти, с лицом, напоминающим несколько лицо Крылова, с ясным и умным взором под нависшей бровью, с важной осанкой, мерной речью, медлительной походкой: вот вам Овсяников. Носил он просторный синий сюртук с длинными рукавами, застегнутый доверху, шелковый лиловый платок на шее, ярко вычищенные сапоги с кистями и вообще с виду походил на зажиточного купца. Руки у него были прекрасные, мягкие и белые, он часто в течение разговора брался за пуговицы своего сюртука. Овсяников своею важностью и неподвижностью, смышленостью и ленью, своим прямодушием и упорством напоминал мне русских бояр допетровских времен… Ферязь бы к нему пристала. Это был один из последних людей старого века. Все соседи его чрезвычайно уважали и почитали за честь знаться с ним. Его братья, однодворцы, только что не молились на него, шапки перед ним издали ломали, гордились им. Говоря вообще, у нас до сих пор однодворца трудно отличить от мужика: хозяйство у него едва ли не хуже мужицкого, телята не выходят из гречихи, лошади чуть живы, упряжь веревочная. Овсяников был исключением из общего правила, хоть и не слыл за богача. Жил он один с своей женой в уютном, опрятном домике, прислугу держал небольшую, одевал людей своих по-русски и называл работниками. Они же у него и землю пахали. Он и себя не выдавал за дворянина, не прикидывался помещиком, никогда, как говорится, «не забывался», не по первому приглашению садился и при входе нового гостя непременно поднимался с места, но с таким достоинством, с такой величавой приветливостью, что гость невольно ему кланялся пониже. Овсяников придерживался старинных обычаев не из суеверия (душа в нем была довольно свободная), а по привычке. Он, например, не любил рессорных экипажей, потому что не находил их покойными, и разъезжал либо в беговых дрожках, либо в небольшой красивой тележке с кожаной подушкой, и сам правил своим добрым гнедым рысаком. (Он держал одних гнедых лошадей.) Кучер, молодой краснощекий парень, остриженный в скобку, в синеватом армяке и низкой бараньей шапке, подпоясанный ремнем, почтительно сидел с ним рядом. Овсяников всегда спал после обеда, ходил в баню по субботам, читал одни духовные книги (причем с важностью надевал на нос круглые серебряные очки), вставал и ложился рано. Бороду, однако же, он брил и волосы носил по-немецки. Гостей он принимал весьма ласково и радушно, но не кланялся им в пояс, не суетился, не потчевал их всяким сушеньем и соленьем. «Жена! – говорил он медленно, не вставая с места и слегка повернув к ней голову. – Принеси господам чего-нибудь полакомиться». Он почитал за грех продавать хлеб – божий дар, и в 40-м году, во время всеобщего голода и страшной дороговизны, роздал окрестным помещикам и мужикам весь свой запас; они ему на следующий год с благодарностью взнесли свой долг натурой. К Овсяникову часто прибегали соседи с просьбой рассудить, помирить их и почти всегда покорялись его приговору, слушались его совета. Многие, по его милости, окончательно размежевались… Но после двух или трех сшибок с помещицами он объявил, что отказывается от всякого посредничества между особами женского пола. Терпеть он не мог поспешности, тревожной торопливости, бабьей болтовни и «суеты». Раз как-то у него дом загорелся. Работник впопыхах вбежал к нему с криком: «Пожар! пожар!» – «Ну, чего же ты кричишь? – спокойно сказал Овсяников. – Подай мне шапку и костыль…» Он сам любил выезжать лошадей. Однажды рьяный битюк[3 - Битюками, или с битюка, называются особенной породы лошади, которые развелись в Воронежской губернии около известного «Хренового» (бывшего конного завода гр. Орловой).] помчал его под гору к оврагу. «Ну, полно, полно, жеребенок малолетний, – убьешься», – добродушно замечал ему Овсяников и через мгновение полетел в овраг вместе с беговыми дрожками, мальчиком, сидевшим сзади, и лошадью. К счастью, на дне оврага грудами лежал песок. Никто не ушибся, один битюк вывихнул себе ногу. «Ну вот, видишь, – продолжал спокойным голосом Овсяников, поднимаясь с земли, – я тебе говорил». И жену он сыскал по себе. Татьяна Ильинична Овсяникова была женщина высокого росту, важная и молчаливая, вечно повязанная коричневым шелковым платком. От нее веяло холодом, хотя не только никто не жаловался на ее строгость, но, напротив, многие бедняки называли ее матушкой и благодетельницей. Правильные черты лица, большие темные глаза, тонкие губы и теперь еще свидетельствовали о некогда знаменитой ее красоте. Детей у Овсяникова не было.
Я с ним познакомился, как уже известно читателю, у Радилова и дня через два поехал к нему. Я застал его дома. Он сидел в больших кожаных креслах и читал Четьи-Минеи. Серая кошка мурлыкала у него на плече. Он меня принял, по своему обыкновенью, ласково и величаво. Мы пустились в разговор.
– А скажите-ка, Лука Петрович, правду, – сказал я между прочим, – ведь прежде, в ваше-то время, лучше было?
– Иное точно лучше было, скажу вам, – возразил Овсяников, – спокойнее мы жили; довольства больше было, точно… А все-таки теперь лучше; а вашим деткам еще лучше будет, бог даст.
– А я так ожидал, Лука Петрович, что вы мне старое время хвалить станете.
– Нет, старого времени мне особенно хвалить не из чего. Вот хоть бы, примером сказать, вы помещик теперь, такой же помещик, как ваш покойный дедушка, а уж власти вам такой не будет! Да и вы сами не такой человек. Нас и теперь другие господа притесняют; но без этого обойтись, видно, нельзя. Перемелется – авось мука будет. Нет, уж я теперь не увижу, чего в молодости насмотрелся.
– А чего бы, например?
– А хоть бы, например, опять-таки скажу про вашего дедушку. Властный был человек! Обижал нашего брата. Ведь вот вы, может, знаете, – да как вам своей земли не знать, – клин-то, что идет от Чаплыгина к Малинину?.. Он у вас под овсом теперь… Ну, ведь он наш, – весь как есть наш. Ваш дедушка у нас его отнял; выехал верхом, показал рукой, говорит: «Мое владенье», – и завладел. Отец-то мой, покойник (царство ему небесное!), человек был справедливый, горячий был тоже человек, не вытерпел, – да и кому охота свое доброе терять? – и в суд просьбу подал. Да один подал, другие-то не пошли – побоялись. Вот вашему дедушке и донесли, что Петр Овсяников, мол, на вас жалуется: землю, вишь, отнять изволили… Дедушка ваш к нам тотчас и прислал своего ловчего Бауша с командой… Вот и взяли моего отца и в вашу вотчину повели. Я тогда был мальчишка маленький, босиком за ними побежал. Что ж?.. Привели его к вашему дому да под окнами и высекли. А ваш-то дедушка стоит на балконе да посматривает; а бабушка под окном сидит и тоже глядит. Отец мой кричит: «Матушка, Марья Васильевна, заступитесь, пощадите хоть вы!» А она только знай приподнимается да поглядывает. Вот и взяли с отца слово отступиться от земли и благодарить еще велели, что живого отпустили. Так она и осталась за вами. Подите-ка, спросите у своих мужиков: как, мол, эта земля прозывается? Дубовщиной она прозывается, потому что дубьем отнята. Так вот от этого и нельзя нам, маленьким людям, очень-то жалеть о старых порядках.
Я не знал, что отвечать Овсяникову, и не смел взглянуть ему в лицо.
– А то другой сосед у нас в те поры завелся, Комов, Степан Никтополионыч. Замучил было отца совсем: не мытьем, так катаньем. Пьяный был человек и любил угощать, и как подопьет да скажет по-французски «се бон»[4 - «Это хорошо» (от фр. с’est bon).], да облизнется – хоть святых вон неси! По всем соседям шлет просить пожаловать. Тройки так у него наготове и стояли; а не поедешь – тотчас сам нагрянет… И такой странный был человек! В «тверёзом» виде не лгал; а как выпьет – и начнет рассказывать, что у него в Питере три дома на Фонтанке: один красный с одной трубой, другой – желтый с двумя трубами, а третий – синий без труб, – и три сына (а он и женат-то не бывал): один в инфантерии, другой в кавалерии, третий сам по себе… И говорит, что в каждом доме живет у него по сыну, что к старшему ездят адмиралы, ко второму – генералы, а к младшему – всё англичане! Вот и поднимется и говорит: «За здравие моего старшего сына, он у меня самый почтительный!» – и заплачет. И беда, коли кто отказываться станет. «Застрелю! – говорит, – и хоронить не позволю!..» А то вскочит и закричит: «Пляши, народ божий, на свою потеху и мое утешение!» Ну, ты и пляши, хоть умирай, а пляши. Девок своих крепостных вовсе замучил. Бывало, всю ночь как есть, до утра хором поют, и какая выше голосом забирает, той и награда. А станут уставать – голову на руки положит и загорюет: «Ох, сирота я сиротливая! Покидают меня, голубчика!» Конюха тотчас девок и приободрят. Отец-то мой ему и полюбись: что прикажешь делать? Ведь чуть в гроб отца моего не вогнал, и точно вогнал бы, да сам, спасибо, умер: с голубятни в пьяном виде свалился… Так вот какие у нас соседушки бывали!
– Как времена-то изменились! – заметил я.
– Да, да, – подтвердил Овсяников. – Ну, и то сказать: в старые-то годы дворяне живали пышнее. Уж нечего и говорить про вельмож: я в Москве на них насмотрелся. Говорят, они и там перевелись теперь.
– Вы были в Москве?
– Был, давно, очень давно. Мне вот теперь семьдесят третий год пошел, а в Москву я ездил на шестнадцатом году.