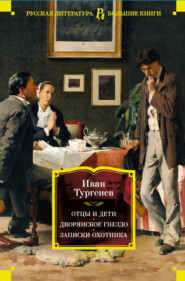По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фауст
Автор
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Остановившись в начале повести на первых юношеских впечатлениях Павла Александровича Б. от гётевского «Фауста», Тургенев воспроизводит весь комплекс связанных с ним своих личных воспоминаний, – здесь воспоминания и о сценическом воплощении трагедии Гёте на берлинской сцене, и о партитуре «Фауста» Радзивилла (см. реальный комментарий, с. 429). «Фауст» ассоциируется у Тургенева со временем его студенчества, порой молодых «желаний» и надежд (см. с. 94). И далее «Фауст» сделан психологическим центром повести, выступает как важный момент в формировании ее героев, как кульминация развития событий. Знакомство с «Фаустом» Гёте, который был воспринят героиней повести прежде всего в плане изображенной в нем любовной трагедии, помогло ей осознать неполноту своей жизни, разрушило барьер, воздвигнутый старшей Ельцовой, решившей построить жизнь дочери только на разумных, рациональных началах, отгородив ее от сильных чувств и страстей. Вера предстает в повести как натура цельная, прямая и самостоятельная, которая, полюбив, готова идти до конца, преодолеть любые препятствия, и Тургенев, вслед за Пушкиным, отражает в ее образе рост мысли и самосознания русской женщины того времени. Однако, показав неизбежность и закономерность пробуждения Веры от искусственного сна, в который она была погружена, и приобщения ее к жизни и одновременно трагический исход ее порыва к счастью, Тургенев в финале повести, в ее заключительном философском аккорде, отчасти сливаясь с героем, потрясенным происшедшим и пересмотревшим юношеские незрелые представления о жизни и свободе, говорит о бесконечной сложности человеческого бытия, переплетении в нем вечных законов и отдельных судеб людей, о случайности или невозможности счастья, о преобладании утрат над радостями. Конечный суровый смысл жизни герой видит в необходимости постоянного «отречения», отказа от любимых мыслей и мечтаний во имя исполнения своего человеческого нравственного долга. Эта концовка перекликается с предпосланным повести эпиграфом из «Фауста» Гёте: «Entbehren sollst du, sollst entbehren» («Отречься <от своих желаний> должен ты, отречься»), который создавал ключевой настрой повествования, предсказывая «роковую» развязку. «В „Фаусте“, – писал Жирмунский, – чтение трагедии Гёте играет решающую роль в духовном пробуждении героини, в ее попытке моральной эмансипации и последующей катастрофе. Эпиграф из „Фауста“ Гёте <…> подчеркивает элемент пессимистического скепсиса и отречения, присущий творчеству Тургенева» (Жирмунский В. Гёте в русской литературе. Л., 1937, с. 359). Несмотря на это, в повести содержатся элементы внутренней полемики с Гёте. Само «отречение», как верно отмечала К. Шютц, у Гёте имеет иной источник, чем у Тургенева. Если для Гёте, бунтующего в «Фаусте» против житейского аскетизма как «прописной мудрости» (см. реальный комментарий, с. 427) «отречение» является, по определению К. Шютц, «свободным самоограничением», на которое «человек идет добровольно, становясь властелином своей творческой силы», то Тургенев, по ее словам, «исходит из пессимистических предпосылок и приходит к отречению из оценки своей жизни и окружающего мира» (Dr. Sch?tz Katharina. Указ. соч., с. 107). «Жизнь – тяжелый труд», «не наложив на себя цепей, железных цепей долга, не может он <человек> дойти, не падая, до конца своего поприща…» – таково конечное убеждение героя повести.
Таким образом в повести Тургенева получили развитие его взгляды, высказанные в статье о «Фаусте» Гёте, но в ней же сказался и частичный отход писателя от его воззрений 1840-х годов.
В изображении судьбы героев повести, их отношений выступает характерная для Тургенева тема трагизма любви. Эта тема звучит и в предшествующих «Фаусту» повестях «Затишье», «Переписка», «Яков Пасынков» и в последующих – «Ася» и «Первая любовь». Рассматривая любовь как проявление одной из стихийных, бессознательных и равнодушных к человеку сил природы, Тургенев в «Фаусте» показывает беспомощность, беззащитность человека перед этой силой. Не могут уберечь от нее героиню повести ни целенаправленное воспитание, ни «благополучно» устроенная семейная жизнь. Любовь возникает в повести как страсть, которая лишь на мгновение вносит в жизнь поэтическое озарение, а затем разрешается трагически. В то же время субъективно-лирическая сторона в повести тонко сочетается с планом объективно-реальным и не противоречит ее социально-психологической правде. История любви героя повести Павла Александровича Б. и Веры Ельцовой дается в определенной обстановке (русский поместный быт) и обусловлена их характерами и понятиями, выработанными под воздействием окружающей среды и воспитания. Мотив разочарования, идея долга, общественного служения, противопоставленного личным стремлениям, проходит и через другие повести Тургенева 1860-х годов, которые вместе с «Фаустом» служат подготовительными звеньями к «Дворянскому гнезду».
Тема любви в «Фаусте» соприкасается с вопросом о роли таинственной и иррациональной стихии в жизни человека. «Неведомое» также трактуется в повести как одно из проявлений всесильной природы. Интерес к нему объединяет «Фауста» с более поздним циклом так называемых «таинственных» повестей: «Собака», «Странная история», «Сон», «Песнь торжествующей любви», «Клара Милич», написанных Тургеневым в конце 1860-х – 1870-х годах, в период увлечения его естественнонаучным эмпиризмом (см. главу о «Таинственных повестях» в книге Г. Бялого «Тургенев и русский реализм». М.; Л., 1962, с. 207–221).
Повесть облечена в эпистолярную форму – это рассказ от лица героя в письмах. К этому приему Тургенев прибегал уже в «Переписке», где герои исповедуются в письмах друг перед другом. В «Фаусте» эта форма носит более емкий характер: излагаемый в письмах рассказ имеет новеллистическую композицию, включает в себя бытописание, портретные характеристики, пейзаж. Поэтому справедливо замечание, что «Фауст» воспринимался современниками и в настоящее время рассматривается как повесть, а подзаголовок «Рассказ в девяти письмах» не является «указанием на жанр», а ориентирует на «сказовый характер повествования» (см.: Русская повесть XIX века. История и проблематика жанра / Под ред. Б. С. Мейлаха. Л., 1973, с. 342–343). «Фауст» написан Тургеневым в пору дальнейшего совершенствования им «новой манеры», ведущей к созданию больших романов (см.: Гитлиц Е. А. К вопросу о формировании «новой манеры» Тургенева (анализ повестей 50-х годов). – Изв. АН СССР. Серия лит. и языка, 1968, т. XXVII, вып. 6, с. 489–501).
Характерной особенностью повести является обилие литературных образов и реминисценций. Кроме Гёте и его трагедии «Фауст», которая определяет сюжет повести и играет столь существенную роль в судьбах героев, цитируются и упоминаются Шекспир, Пушкин, Тютчев. Героиня сравнивается одновременно с Маргаритой и с Манон Леско. Всё это часто встречается и в других произведениях Тургенева (такое же, например, преображающее воздействие, как «Фауст» Гёте на Веру, на героиню «Затишья» оказывает пушкинский «Анчар») и связано с более широким вопросом – о роли литературной традиции в его творчестве (см. об этом в статье А. Белецкого «Тургенев и русские писательницы 30–60-х годов», в которой отмечается развитие в «Фаусте» ряда сюжетных и идейно-тематических мотивов произведений русских романтических писательниц Е. А. Ган, Е. Н. Шаховой и М. С. Жуковой – Творч путь Т, с. 156–162). Типологическим связям «Фауста» с просветительской философской повестью XVIII века, особенно французской, образцом которой может служить упоминаемый Тургеневым «Кандид» Вольтера, а также их различию, своеобразному трагическому преломлению в реалистической тургеневской повести мысли просветителей о необходимости естественной цельности человека посвящена работа В. Н. Тихомирова «У жанровых истоков повести Тургенева „Фауст“» (см. развернутое резюме его доклада на научной межвузовской конференции в сб.: Проблемы литературных жанров. Томск, 1975, с. 71–73).
«Фауст» имел успех. Еще в незаконченном виде повесть понравилась Панаеву, Боткину и Некрасову, к которым Тургенев обратился за литературными советами. Проводив Тургенева за границу, где он должен был закончить работу над «Фаустом», Некрасов писал Фету 31 июля (12 августа) 1856 г.: «Ну, Фет! какую он повесть написал! Я всегда думал, что с этого малого будет прок, но, право, удивился и, разумеется, сильно обрадовался. У него огромный талант, и коли правду сказать – так он в своем роде стоит Гоголя. Я теперь это положительно утверждаю. Целое море поэзии, могучей, благоуханной и обаятельной, вылил он в эту повесть из своей души…» (Некрасов, т. X, с. 287). Некрасов же сообщал Тургеневу позднее, после появления повести в «Современнике», о том, что «„Фауст“ сильно гремит» (там же, с. 301). Сам Тургенев писал В. П. Боткину 25 октября (6 ноября) 1856 г. из Парижа: «Я получил из России письма – мне говорят, что мой „Фауст“ нравится…».
Сохранился ряд эпистолярных отзывов о «Фаусте», характеризующих восприятие повести в различных литературных кругах. П. В. Анненков, А. В. Дружинин, В. П. Боткин, представители «эстетической школы», высоко оценив лиризм повести, противопоставляли «Фауста» произведениям Тургенева с социальной проблематикой. Анненков «умилился», по собственному признанию, от «Фауста», потому что это – «свободная вещь» (Труды ГБЛ, вып. III, с. 59). Дружинин, имея в виду соответственно «гоголевское» и «пушкинское» направления, приветствовал то, что Тургенев, как ему казалось, «не усидел» на Жорж Санд и пошел вслед за Гёте (Т и круг Совр, с. 194). В. П. Боткин в письме Тургеневу от 10 (22) ноября 1856 г. дает развернутый отзыв о повести. Выделив в творчестве Тургенева произведения объективного плана, подобные «Запискам охотника», «затрагивающие известную струну», Боткин противопоставил им субъективные, в которых выражается «романтизм чувства», «высшие и благороднейшие стремления», как более соответствующие лирическому по своему характеру таланту Тургенева. Боткин видел в них залог будущего расцвета писателя, начало которому положено «Фаустом». Успех «Фауста», пишет он, «на стороне натуры твоей, на симпатичности рассказа, на общем созерцании, на поэзии чувства, на искренности, которая в первый раз, как мне кажется, дала себе некоторую волю» (Боткин и Т, с. 101–103).
Положительно отнесся к повести и Л. Н. Толстой, о чем свидетельствует запись от 28 октября 1856 г. в его дневнике: «Прочел <…> „Фауста“ Тург<енева>. Прелестно» (Толстой, т. 47, с. 97). В. Ф. Лазурский в своем «Дневнике» 5 августа 1894 г. записал интересное высказывание Л. Н. Толстого, в котором «Фаусту» отводится определенное место в духовной эволюции Тургенева. «Я всегда говорю: чтобы понять Тургенева, нужно читать, – советовал Л. Н. Толстой, – последовательно: „Фауст“, „Довольно“ н „Гамлет и Дон-Кихот“. Тут видно, как сомнение сменяется у него мыслью о том, где истина» (Лит Насл, т. 37–38, с. 480).
Критически восприняли повесть Герцен и Огарев, которым Тургенев оставил рукопись «Фауста» для прочтения во время своего пребывания в Лондоне во второй половине августа ст. ст. 1836 г. Оба они с похвалой отозвались о первом письме, носящем лирико-бытовой характер, и осудили романтические и фантастические элементы повести. «После первого письма – chef d’oeuvre слога во всех отношениях – я не того ждал. Куда нам заходить в романтическое Замоскворечье – мы люди земляные, жиленые да костяные», – писал А. И. Герцен Тургеневу 14 (26) сентября 1856 г. К этому письму была приложена записка Н. П. Огарева с отзывом о «Фаусте». «Первое письмо, – писал Огарев, – так наивно, свежо, естественно, хорошо, что я никак не ожидал остального. Происшествие кажется придуманным с каким-то усилием для того, чтобы высказать неясные мнения о таинственном мире, в который Вы сами не верите». Он находил неестественным и сюжет «Фауста» и психологическую сторону развития любви, объясняя это тем, что в «Фаусте» «фантастическая сторона прилеплена; повесть может обойтись и без нее» (Совр, 1913, № 6, с. 6–8). Аналогичное суждение о «Фаусте» высказал и M. H. Лонгинов в письме к Тургеневу от 23 октября (4 ноября) 1856 г. из Москвы. Сообщая, что «Фауст» «нравится многим», но не ему, и хваля «первое письмо», которое он прочел «с наслаждением», Лонгинов находил всю повесть «неестественною» и считал, что Тургенев «в ней не в своей сфере», зачерпнул «немного из мутного колодца творений <…> Одоевского» (Сб ПД 1923, с. 142–143). Но характеризуя мнение о «Фаусте» широкого круга современных читателей, Боткин сообщал Тургеневу из Москвы в упомянутом уже письме от 10 (22) ноября 1856 г.: «…он встретил здесь самый симпатичный прием и даже у людей, которые не имеют к тебе расположения. Даже те, которым не нравится в нем фантастическая сторона – и те с охотою извиняют ее за общее достоинство рассказа» (Боткин и Т, с. 101).
Первым печатным откликом на тургеневского «Фауста» был критический фельетон Вл. Зотова (СПб Вед, 1856, № 243, 6 ноября). Воздав должное стилю повести, Вл. Зотов находил в сюжете ее «несообразности и неестественности» и выражал сожаление, что талант писателя «употребляется на развитие таких невозможных историй». «Мать героини, испытавшая порядочные треволнения в жизни, – пишет Зотов, – думает оградить от них свою дочь тем, что не позволяет ей читать стихов, – первая несообразность; потом она не выдает ее за человека порядочного, говоря, что ей не такой муж надобен, и отдает за болвана, – хорошее средство предостеречься от страстей! Дочка, даже вышед замуж, не чувствует ни малейшего желания прочесть ни одного романа; таких дам, в то же время умных и образованных, какою изображена Вера Николаевна, мы твердо убеждены – нет ни в одном из самых отдаленных уголков России…»
С опровержением подобных обвинений выступил Д. И. Писарев в статье «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова» (Рус Сл, 1861, № 12). Трактуя образы старшей и младшей Ельцовых как личности необычные, почти исключительные, чувства которых развиты в повести до романтического предела, Писарев показывает, что всё в них вместе с тем психологически оправданно и характерно. «Образы, в которых Тургенев выразил свою идею, – отмечал Писарев, – стоят на границе фантастического мира. Он взял исключительную личность, поставил ее в зависимость от другой исключительной личности, создал для нее исключительное положение и вывел крайние последствия из этих исключительных данных <…> Размеры, взятые, автором, превышают обыкновенные размеры, но идея, выраженная в повести, остается верною, прекрасною идеею. Как яркая формула этой идеи, „Фауст“ Тургенева неподражаемо хорош. Ни одно единичное явление не достигает в действительной жизни той определенности контуров и той резкости красок, которые поражают читателя в фигурах Ельцовой и Веры Николаевны, но зато эти две почти фантастические фигуры бросают яркую полосу света на явления жизни, расплывающиеся в неопределенных, сероватых туманных пятнах» (Писарев, т. I, с 265).
Много лет спустя, в ответе на анкету, которая была разослана в 1918 г. ряду деятелей литературы с целью выяснения их отношения к Тургеневу, писательница Л. Ф. Нелидова писала:
«Как-то раз, разговаривая с Иваном Сергеевичем, я сказала ему, что в его повести „Фауст“ мать героини Ельцова напоминает мне мою мать и ее отношение к чтению романов. Тургенев был очень доволен этим замечанием. По его словам, ему не раз приходилось слышать по поводу этой самой Ельцовой упреки в надуманности и неверности изображения ее характера, и было особенно приятно узнать о сходстве ее с живым лицом.
Сходство было несомненное. Подобно героине „Фауста“, в детстве и юности я могла читать только детские книги, путешествия и хрестоматии. Исключение было сделано для одного Тургенева» (Т и его время, с. 7).
В связи с выходом в 1856 г. издания «Повестей и рассказов» И. C. Тургенева в журналах того времени появился ряд рецензий, в которых характеризовался «Фауст». А. В. Дружинин в «Библиотеке для чтения» развивал мысль, высказанную им ранее в письме к Тургеневу, о победе в его творчестве «пушкинского» начала над «гоголевским». По его словам, «…в „Муму“, в „Двух приятелях“, в „Затишье“, в „Переписке“, в „Фаусте“ поток поэзии прорывается со всею силою, срывает преграды, мечется по сторонам, и хотя не вполне получает свободное течение, но уже высказывает и богатство свое и свое истинное направление» (Б-ка Чт, 1857, № 3, отд. «Критика», с. 11).
К. С. Аксаков, давая в «Русской беседе» «Обозрение современной литературы», в духе своих славянофильских взглядов сопоставляет «Рудина», в котором «выставлен человек замечательный: с умом сильным, интересом высоким, но отвлеченный и путающийся в жизни», и «Фауста», где Тургенев «противополагает <…> дрянности человеческой уже не только простую, цельную, естественную природу души, но цельность духовного начала, нравственную истину, вечную и крепкую, – опору, прибежище и силу человека» (Рус беседа, 1857, № 5, отд. «Обозрения», т. I, с. 22).
C. С. Дудышкин в рецензии на «Повести и рассказы» И. С. Тургенева, критикуя основного героя ранних произведений Тургенева, «лишнего человека», противопоставляет ему «благородного человека, который трудится изо дня в день без громких фраз», и трактует в свете этих благонамеренных либеральных идеалов «Фауста» Тургенева. Дудышкин осуждает героя повести, нарушившего «покой одной прекрасной женщины, Ельцовой, тем, что развил ее умственный горизонт, вдохнул в нее страсть, из которой ей не было исхода. Одна смерть была необходима, и потому Ельцова умерла. Она исполнила свой долг» (Отеч Зап, 1857, № 1, отд. II, с. 23). И далее Дудышкин, перефразируя заключительные слова повести о долге и отречении, рассматривает их как ключ к новому этапу творчества Тургенева, когда писатель обретет «идеал», гармонирующий с окружающей его обстановкой, и для его героев наступит «пора деятельности, труда» (там же, с. 25).
Против этих идей Дудышкина, тенденциозно перетолковывавшего произведения Тургенева, выступил Н. Г. Чернышевский в «Заметках о журналах» (Совр, 1857, № 2) (см. наст. изд., т. 4, с. 639). Ранее, вскоре после выхода «Фауста» в свет, Чернышевский в статье о «Детстве и отрочестве» и «Военных рассказах» Л. Н. Толстого (Совр, 1856, № 12) особо оттенил стремление Тургенева отобразить «явления, положительным или отрицательным образом относящиеся к тому, что называется поэзиею жизни, и к вопросу о гуманности» и процитировал звучащие в устах героя «Фауста» тютчевские стихи в связи с впечатлением, произведенным на него Верою (см. наст. том, с. 114), чтобы передать ощущение освежающего, просветляющего воздействия «чистой юношеской души, с радостной любовью откликающейся на всё, что представляется ей возвышенным и благородным, чистым и прекрасным, как сама она». Признавая за Тургеневым лирическую способность в выражении общечеловеческих чувств, Чернышевский завершает приведенную цитату из «Фауста» важным для него выводом: «Такова же сила нравственной чистоты в поэзии» (Чернышевский, т. III, с. 422, 428).
Однако ни Чернышевский, ни Добролюбов не могли солидаризоваться и с Тургеневым, противопоставившим долг и личное счастье. Это противоречило этической системе революционных демократов, теории «разумного эгоизма», по которой долг определяется внутренним влечением, а основным источником деятельности развитой личности является разумно понятый «эгоизм». И в 1858 г. в статье «Николай Владимирович Станкевич» Добролюбов (Совр, № 4), не называя Тургенева по имени, вступил с ним в полемику. «Не так давно, – пишет Добролюбов, – один из наших даровитейших писателей высказал прямо этот взгляд, сказавши, что цель жизни не есть наслаждение, а, напротив, есть вечный труд, вечная жертва, что мы должны постоянно принуждать себя, противодействуя своим желаниям, вследствие требований нравственного долга. В этом взгляде есть сторона очень похвальная, именно – уважение к требованиям нравственного долга <…> с другой стороны, взгляд этот крайне печален потому, что потребности человеческой природы он прямо признает противными требованиям долга…» (Добролюбов, т. III, с. 67).
Позднее в статье «Благонамеренность и деятельность» (Совр, 1860, № 7), также частично направленной против Тургенева, Добролюбов, ратуя за появление в литературе образа деятеля нового типа, цельного человека, вновь упомянул «Фауста» Тургенева: «Нам не представляют внутренней работы и нравственной борьбы человека, сознавшего ложность настоящего порядка и упорно, неотступно добивающегося истины; нового Фауста никто нам и не думал изображать, хоть у нас есть даже и повесть с таким названием…» (Добролюбов, т, II, с. 248).
Чернышевский откликнулся на повесть в статье «Русский человек на rendez-vous» (Атеней, 1858, № 3). Поставив «Фауста» в связь с «Рудиным» и «Асей», Чернышевский раскрывает социальный аспект изображенного в повести конфликта. Рассматривая нерешительное «поведение» в любви героев этих произведений как показатель и для их отношения к «делу», Чернышевский разоблачает сходящего с общественной арены прежнего дворянского героя русской литературы. «В „Фаусте“, – пишет Чернышевский, – герой старается ободрить себя тем, что ни он, ни Вера не имеют друг к другу серьезного чувства; сидеть с ней, мечтать о ней – это его дело, но по части решительности, даже в словах, он держит себя так, что Вера сама должна сказать ему, что любит его <…> Не удивительно, что после такого поведения любимого человека (иначе, как „поведением“, нельзя назвать образ поступков этого господина) у бедной женщины сделалась нервическая горячка; еще натуральнее, что потом он стал плакаться на свою судьбу. Это в „Фаусте“; почти то же и в „Рудине“» (Чернышевский, т. V, с. 158–159).
В последующие годы «Фауст» продолжает привлекать внимание критики. В 1867 г. в «Отечественных записках» была опубликована критическая заметка Б. И. Утина «Аскетизм у г. Тургенева», в которой отмечаются – как характерная для воззрений Тургенева черта – элементы аскетических настроений в таких его произведениях, как «Дворянское гнездо», «Накануне», «Фауст», «Переписка», «Призраки» и «Довольно». Основы такою подхода к жизни Утин видит в философии Шопенгауэра. Рассматривая «Фауста» лишь с точки зрения отражения в нем «аскетических» идей и слишком прямолинейно толкуя заключительные слова повести, Утин обедняет ее содержание. «Смысл здесь, – пишет он, – очевидно тот же. Жизнь не любит шутить, а потому не отдавайся ей, но живи, и ты уйдешь от ее опасностей» (Отеч Зап, 1867, № 7, т. 173, кн. 2, отд. II, с. 54).
В 1870 г. Н. В. Шелгунов отозвался на выход в свет очередных томов «Сочинений И. С. Тургенева» статьей «Неустранимая утрата». Свои общие суждения о пессимистических мотивах в творчестве Тургенева, грустной лирической тональности его таланта, чуткости писателя к человеческому горю, мастерстве тонкого проникновения в женскую психологию Шелгунов подтверждает и на разборе «Фауста». Характеризуя Веру Ельцову как натуру сильную, но обреченную на гибель, и сравнивая ее судьбу с жизнью героинь других произведений Тургенева, Шелгунов спрашивает: «Что ж это за горькая судьбина? Что за преследующий фатализм? Где его корень? Отчего люди несчастны? Неужели нет выхода?» «Тургенев, – по его словам, – не дает ответа на эти вопросы. Ищите, догадывайтесь, спасайтесь, как знаете». И далее анализ повести он заключает выводом: «Любовь – болезнь, химера, говорит Тургенев, от нее не спасешься, и ни одна женщина не минует ее руки <…> Не силу активного протеста вызывает у вас Тургенев, а возбуждает какое-то непримиряющееся щемление, ищущее выхода в пассивном страдании, в молчаливом, горьком протесте». С революционно-демократических позиций осуждает Шелгунов и призыв в «Фаусте» к труду и отречению. «Жизнь есть труд, говорит Тургенев. Но разве о здоровом труде говорит Павел Александрович? Его труд есть отчаяние безнадежности, не жизнь, а смерть, не сила энергии, а упадок различных сил…» (Дело, 1870, № 6, с. 14–16).
В 1875 г. С. А. Венгеров в одном из ранних своих трудов – «Русская литература в ее современных представителях. Критико-биографический этюд. И. С. Тургенев» – отвел специальную главу «Фаусту». В основу разбора повести положена мысль о том, что нельзя «идти против естественного хода вещей, против нормального развития природных даров» (СПб., 1875. Ч. II, с. 64). Поэтому ошибаются те «близорукие судьи», говорит Венгеров, которые обвиняют героя повести в том, что он разрушил «счастье» Веры. «Когда-нибудь должна же была бы произойти брешь в стене, отделяющей ее от действительности. Следовательно, если не герой повести, то другой, третий разыграли бы его роль и открыли бы глаза Вере Николаевне, до того завешанные рукой заботливой матери» (там же, с. 69). И вывод, к которому приходит Венгеров, противостоит односторонним критическим суждениям об «аскетических» идеях повести. «Печальным предостережением возвышается перед нами симпатичная фигура Веры Ельцовой, увеличивая собою галерею привлекательных женских портретов Тургенева. В ее лице защитники свободы человеческого сердца могут почерпнуть гораздо более сильные доказательства, чем из всех жоржзандовских романов, потому что ничто не действует на нас сильнее, чем грустный финал, являющийся результатом известного нерационального явления» (там же, с. 72).
Из более поздних откликов интересен отзыв революционера-анархиста П. А. Кропоткина, который в 1907 г., как в свое время Чернышевский, обратил внимание на несостоятельность героя повести. Рассматривая «Фауста» в ряду таких повестей Тургенева, как «Затишье», «Переписка», «Яков Пасынков», «Ася», он заключает: «В них слышится почти отчаяние в образованном русском интеллигенте, который даже в любви оказывается неспособным проявить сильное чувство, которое снесло бы преграды, лежащие на его пути; даже при самых благоприятных обстоятельствах он может принести любящей его женщине только печаль и отчаяние» (Кропоткин П. Идеалы и действительность в русской литературе. СПб., 1907, с. 102).
Первый перевод «Фауста» на французский язык был сделан И. Делаво в 1856 г. (Revue des Deux Mondes, 1856, t. VI, Livraison 1-er Dеcembre, p. 581–615). По поводу этого перевода Тургенев писал В. П. Боткину 25 ноября (7 декабря) 1856 г. из Парижа: «Делаво перекатал моего „Фгуста“ и тиснул его в декабрьской книжке „Revue des 2 Mondes“ – издатель (де-Марс) приходил меня благодарить и уверял, что эта вещь имеет большой успех; а мне, ей-богу, всё равно, нравлюсь ли я французам или нет, тем более, что M-me Виардо этот „Фауст“ не понравился». Ознакомившись с переводом, В. П. Боткин сообщал Тургеневу: «Прочел я по-французски твоего „Фауста“, но он мне по-французски показался очень бледным – вся прелесть изложения пропала – словно скелет один остался» (Боткин и Т, с. 111–112). В 1858 г. перевод «Фауста» был опубликован в первом французском сборнике повестей и рассказов Тургенева, переведенных Кс. Мармье (1858, Sc?nes, I). С этого издания в 1862 г. Фр. Боденштедтом был сделан первый немецкий перевод (Russische Revue, 1862, Bd. I, Hf. I, S. 59–96), который очень понравился Тургеневу. 19 (31) октября 1862 г. он писал Фр. Боденштедту: «Не могу прежде всего не поговорить с вами о переводе моей повести „Фауст“, хотя это и немного эгоистично с моей стороны. Я только что прочел его и был буквально в восторге – это просто-напросто совершенство. (Говорю, разумеется, о переводе, а не об оригинале.) Недостаточно знать до основания русский язык – надобно еще самому быть большим стилистом для того, чтобы создать нечто столь совершенно удавшееся» (с французского). Этот перевод был им перепечатан дважды – в первом из двух вышедших томов задуманного Фр. Боденштедтом собрания сочинений Тургенева на немецком языке (Erz?hlungen von Iwan Turgenjew. Deutsch von Friedrich Bodenstedt. Autorisierte Ausgabe. M?nchen, 1864. Bd. I).
Из других прижизненных переводов «Фауста» отметим следующие: чешский (в журнале «Obrazy zivota», 1860 – перевел Vavra), два сербских перевода (в журнале «Матица», 1866, № 39–44, и «Фауст» у Новом Саду, 1877), три польских (Wedrowiec, 1868; Tydzien literacko-artystyczny. Dodatek literacki do «Kuriera Lwowskiego», 1874 и Warszawski Dziennik, 1876, № 87, 89, 92 и 98, английский (Galaxy, XIII, № 5, 6. May – June, 1872), шведский (Tourgеneff Iwan. Faust. Ber?ttelse. ?fvers?ttning af M. B. Varberg, 1875).
«Фауст» Тургенева вызвал подражания в немецкой литературе. Факт этот отмечала еще при жизни писателя немецкая критика. Так, по свидетельству Отто Глагау, автора книги «Die Russische Literatur und Iwan Turgeniew» (Berlin, 1872), под явным воздействием Тургенева был написан роман Карла Детлефа (псевдоним писательницы Клары Бауэр) «Неразрывные узы» («Unl?sliche Bande» – см. указ. соч., с. 163–164). Форма переписки двух друзей, один из которых русский писатель Сабуров, сюжетная ситуация – гибель героини как жертвы «уз», насильно навязанного ей брака и пробудившегося в ней чувства, осуждение жизни, в основу которой положено эгоистическое личное начало, и идея подчинения ее общественному долгу – всё это сближает «Неразрывные узы» с повестью Тургенева «Фауст» (см. пересказ этого романа в статье: Цебрикова М. Немецкие романы из русской жизни. – Неделя, 1874, № 46, с. 1672–1674).
Условные сокращения
Горбачева, Молодые годы, Т – Горбачева В. Н. Молодые годы Тургенева. (По неизд. материалам). Казань, 1926.
Станкевич, Переписка – Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840 / Ред. и изд. Алексея Станкевича. М., 1914.
Стасюлевич – Стасюлевич M. M. и его современники в их переписке. СПб., 1911–1913. Т. I–V.
Т, Рудин, 1936 – Тургенев И. С. Рудин. Дворянское гнездо. 2-е изд. М.; Л.: Academia, 1936.
Творч путь Т – Творческий путь Тургенева. Сборник статей под редакцией Н. Л. Бродского. Пг.: Сеятель, 1923.
Ausgew?hlte Werke – Iwan Turgеnjew’s Ausgew?hlte Werke. Autorisierte Ausgabe, Mitau – Hamburg, E. Behre’s Verlag, 1869–1884.
Dolch — Dolch Oscar. Geschichte des deutschen Studententhums von der Gr?ndung der deutschen Universit?ten bis zu den deutschen Freihetskriegen. Leipzig, 1858.
Tageb?cher — Varnbagen K.-A. Tageb?cher, 1861–1905, Bd. I–XV.
notes
Сноски
1
Отречься <от своих желаний> должен ты, отречься (нем.).
2
в ракурсе (франц.).
3
«Развращенного крестьянина» (франц.).
4
Эта книга принадлежит девице Евдокии Лавриной (франц.).
5
навязчивые идеи (франц.).
Таким образом в повести Тургенева получили развитие его взгляды, высказанные в статье о «Фаусте» Гёте, но в ней же сказался и частичный отход писателя от его воззрений 1840-х годов.
В изображении судьбы героев повести, их отношений выступает характерная для Тургенева тема трагизма любви. Эта тема звучит и в предшествующих «Фаусту» повестях «Затишье», «Переписка», «Яков Пасынков» и в последующих – «Ася» и «Первая любовь». Рассматривая любовь как проявление одной из стихийных, бессознательных и равнодушных к человеку сил природы, Тургенев в «Фаусте» показывает беспомощность, беззащитность человека перед этой силой. Не могут уберечь от нее героиню повести ни целенаправленное воспитание, ни «благополучно» устроенная семейная жизнь. Любовь возникает в повести как страсть, которая лишь на мгновение вносит в жизнь поэтическое озарение, а затем разрешается трагически. В то же время субъективно-лирическая сторона в повести тонко сочетается с планом объективно-реальным и не противоречит ее социально-психологической правде. История любви героя повести Павла Александровича Б. и Веры Ельцовой дается в определенной обстановке (русский поместный быт) и обусловлена их характерами и понятиями, выработанными под воздействием окружающей среды и воспитания. Мотив разочарования, идея долга, общественного служения, противопоставленного личным стремлениям, проходит и через другие повести Тургенева 1860-х годов, которые вместе с «Фаустом» служат подготовительными звеньями к «Дворянскому гнезду».
Тема любви в «Фаусте» соприкасается с вопросом о роли таинственной и иррациональной стихии в жизни человека. «Неведомое» также трактуется в повести как одно из проявлений всесильной природы. Интерес к нему объединяет «Фауста» с более поздним циклом так называемых «таинственных» повестей: «Собака», «Странная история», «Сон», «Песнь торжествующей любви», «Клара Милич», написанных Тургеневым в конце 1860-х – 1870-х годах, в период увлечения его естественнонаучным эмпиризмом (см. главу о «Таинственных повестях» в книге Г. Бялого «Тургенев и русский реализм». М.; Л., 1962, с. 207–221).
Повесть облечена в эпистолярную форму – это рассказ от лица героя в письмах. К этому приему Тургенев прибегал уже в «Переписке», где герои исповедуются в письмах друг перед другом. В «Фаусте» эта форма носит более емкий характер: излагаемый в письмах рассказ имеет новеллистическую композицию, включает в себя бытописание, портретные характеристики, пейзаж. Поэтому справедливо замечание, что «Фауст» воспринимался современниками и в настоящее время рассматривается как повесть, а подзаголовок «Рассказ в девяти письмах» не является «указанием на жанр», а ориентирует на «сказовый характер повествования» (см.: Русская повесть XIX века. История и проблематика жанра / Под ред. Б. С. Мейлаха. Л., 1973, с. 342–343). «Фауст» написан Тургеневым в пору дальнейшего совершенствования им «новой манеры», ведущей к созданию больших романов (см.: Гитлиц Е. А. К вопросу о формировании «новой манеры» Тургенева (анализ повестей 50-х годов). – Изв. АН СССР. Серия лит. и языка, 1968, т. XXVII, вып. 6, с. 489–501).
Характерной особенностью повести является обилие литературных образов и реминисценций. Кроме Гёте и его трагедии «Фауст», которая определяет сюжет повести и играет столь существенную роль в судьбах героев, цитируются и упоминаются Шекспир, Пушкин, Тютчев. Героиня сравнивается одновременно с Маргаритой и с Манон Леско. Всё это часто встречается и в других произведениях Тургенева (такое же, например, преображающее воздействие, как «Фауст» Гёте на Веру, на героиню «Затишья» оказывает пушкинский «Анчар») и связано с более широким вопросом – о роли литературной традиции в его творчестве (см. об этом в статье А. Белецкого «Тургенев и русские писательницы 30–60-х годов», в которой отмечается развитие в «Фаусте» ряда сюжетных и идейно-тематических мотивов произведений русских романтических писательниц Е. А. Ган, Е. Н. Шаховой и М. С. Жуковой – Творч путь Т, с. 156–162). Типологическим связям «Фауста» с просветительской философской повестью XVIII века, особенно французской, образцом которой может служить упоминаемый Тургеневым «Кандид» Вольтера, а также их различию, своеобразному трагическому преломлению в реалистической тургеневской повести мысли просветителей о необходимости естественной цельности человека посвящена работа В. Н. Тихомирова «У жанровых истоков повести Тургенева „Фауст“» (см. развернутое резюме его доклада на научной межвузовской конференции в сб.: Проблемы литературных жанров. Томск, 1975, с. 71–73).
«Фауст» имел успех. Еще в незаконченном виде повесть понравилась Панаеву, Боткину и Некрасову, к которым Тургенев обратился за литературными советами. Проводив Тургенева за границу, где он должен был закончить работу над «Фаустом», Некрасов писал Фету 31 июля (12 августа) 1856 г.: «Ну, Фет! какую он повесть написал! Я всегда думал, что с этого малого будет прок, но, право, удивился и, разумеется, сильно обрадовался. У него огромный талант, и коли правду сказать – так он в своем роде стоит Гоголя. Я теперь это положительно утверждаю. Целое море поэзии, могучей, благоуханной и обаятельной, вылил он в эту повесть из своей души…» (Некрасов, т. X, с. 287). Некрасов же сообщал Тургеневу позднее, после появления повести в «Современнике», о том, что «„Фауст“ сильно гремит» (там же, с. 301). Сам Тургенев писал В. П. Боткину 25 октября (6 ноября) 1856 г. из Парижа: «Я получил из России письма – мне говорят, что мой „Фауст“ нравится…».
Сохранился ряд эпистолярных отзывов о «Фаусте», характеризующих восприятие повести в различных литературных кругах. П. В. Анненков, А. В. Дружинин, В. П. Боткин, представители «эстетической школы», высоко оценив лиризм повести, противопоставляли «Фауста» произведениям Тургенева с социальной проблематикой. Анненков «умилился», по собственному признанию, от «Фауста», потому что это – «свободная вещь» (Труды ГБЛ, вып. III, с. 59). Дружинин, имея в виду соответственно «гоголевское» и «пушкинское» направления, приветствовал то, что Тургенев, как ему казалось, «не усидел» на Жорж Санд и пошел вслед за Гёте (Т и круг Совр, с. 194). В. П. Боткин в письме Тургеневу от 10 (22) ноября 1856 г. дает развернутый отзыв о повести. Выделив в творчестве Тургенева произведения объективного плана, подобные «Запискам охотника», «затрагивающие известную струну», Боткин противопоставил им субъективные, в которых выражается «романтизм чувства», «высшие и благороднейшие стремления», как более соответствующие лирическому по своему характеру таланту Тургенева. Боткин видел в них залог будущего расцвета писателя, начало которому положено «Фаустом». Успех «Фауста», пишет он, «на стороне натуры твоей, на симпатичности рассказа, на общем созерцании, на поэзии чувства, на искренности, которая в первый раз, как мне кажется, дала себе некоторую волю» (Боткин и Т, с. 101–103).
Положительно отнесся к повести и Л. Н. Толстой, о чем свидетельствует запись от 28 октября 1856 г. в его дневнике: «Прочел <…> „Фауста“ Тург<енева>. Прелестно» (Толстой, т. 47, с. 97). В. Ф. Лазурский в своем «Дневнике» 5 августа 1894 г. записал интересное высказывание Л. Н. Толстого, в котором «Фаусту» отводится определенное место в духовной эволюции Тургенева. «Я всегда говорю: чтобы понять Тургенева, нужно читать, – советовал Л. Н. Толстой, – последовательно: „Фауст“, „Довольно“ н „Гамлет и Дон-Кихот“. Тут видно, как сомнение сменяется у него мыслью о том, где истина» (Лит Насл, т. 37–38, с. 480).
Критически восприняли повесть Герцен и Огарев, которым Тургенев оставил рукопись «Фауста» для прочтения во время своего пребывания в Лондоне во второй половине августа ст. ст. 1836 г. Оба они с похвалой отозвались о первом письме, носящем лирико-бытовой характер, и осудили романтические и фантастические элементы повести. «После первого письма – chef d’oeuvre слога во всех отношениях – я не того ждал. Куда нам заходить в романтическое Замоскворечье – мы люди земляные, жиленые да костяные», – писал А. И. Герцен Тургеневу 14 (26) сентября 1856 г. К этому письму была приложена записка Н. П. Огарева с отзывом о «Фаусте». «Первое письмо, – писал Огарев, – так наивно, свежо, естественно, хорошо, что я никак не ожидал остального. Происшествие кажется придуманным с каким-то усилием для того, чтобы высказать неясные мнения о таинственном мире, в который Вы сами не верите». Он находил неестественным и сюжет «Фауста» и психологическую сторону развития любви, объясняя это тем, что в «Фаусте» «фантастическая сторона прилеплена; повесть может обойтись и без нее» (Совр, 1913, № 6, с. 6–8). Аналогичное суждение о «Фаусте» высказал и M. H. Лонгинов в письме к Тургеневу от 23 октября (4 ноября) 1856 г. из Москвы. Сообщая, что «Фауст» «нравится многим», но не ему, и хваля «первое письмо», которое он прочел «с наслаждением», Лонгинов находил всю повесть «неестественною» и считал, что Тургенев «в ней не в своей сфере», зачерпнул «немного из мутного колодца творений <…> Одоевского» (Сб ПД 1923, с. 142–143). Но характеризуя мнение о «Фаусте» широкого круга современных читателей, Боткин сообщал Тургеневу из Москвы в упомянутом уже письме от 10 (22) ноября 1856 г.: «…он встретил здесь самый симпатичный прием и даже у людей, которые не имеют к тебе расположения. Даже те, которым не нравится в нем фантастическая сторона – и те с охотою извиняют ее за общее достоинство рассказа» (Боткин и Т, с. 101).
Первым печатным откликом на тургеневского «Фауста» был критический фельетон Вл. Зотова (СПб Вед, 1856, № 243, 6 ноября). Воздав должное стилю повести, Вл. Зотов находил в сюжете ее «несообразности и неестественности» и выражал сожаление, что талант писателя «употребляется на развитие таких невозможных историй». «Мать героини, испытавшая порядочные треволнения в жизни, – пишет Зотов, – думает оградить от них свою дочь тем, что не позволяет ей читать стихов, – первая несообразность; потом она не выдает ее за человека порядочного, говоря, что ей не такой муж надобен, и отдает за болвана, – хорошее средство предостеречься от страстей! Дочка, даже вышед замуж, не чувствует ни малейшего желания прочесть ни одного романа; таких дам, в то же время умных и образованных, какою изображена Вера Николаевна, мы твердо убеждены – нет ни в одном из самых отдаленных уголков России…»
С опровержением подобных обвинений выступил Д. И. Писарев в статье «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова» (Рус Сл, 1861, № 12). Трактуя образы старшей и младшей Ельцовых как личности необычные, почти исключительные, чувства которых развиты в повести до романтического предела, Писарев показывает, что всё в них вместе с тем психологически оправданно и характерно. «Образы, в которых Тургенев выразил свою идею, – отмечал Писарев, – стоят на границе фантастического мира. Он взял исключительную личность, поставил ее в зависимость от другой исключительной личности, создал для нее исключительное положение и вывел крайние последствия из этих исключительных данных <…> Размеры, взятые, автором, превышают обыкновенные размеры, но идея, выраженная в повести, остается верною, прекрасною идеею. Как яркая формула этой идеи, „Фауст“ Тургенева неподражаемо хорош. Ни одно единичное явление не достигает в действительной жизни той определенности контуров и той резкости красок, которые поражают читателя в фигурах Ельцовой и Веры Николаевны, но зато эти две почти фантастические фигуры бросают яркую полосу света на явления жизни, расплывающиеся в неопределенных, сероватых туманных пятнах» (Писарев, т. I, с 265).
Много лет спустя, в ответе на анкету, которая была разослана в 1918 г. ряду деятелей литературы с целью выяснения их отношения к Тургеневу, писательница Л. Ф. Нелидова писала:
«Как-то раз, разговаривая с Иваном Сергеевичем, я сказала ему, что в его повести „Фауст“ мать героини Ельцова напоминает мне мою мать и ее отношение к чтению романов. Тургенев был очень доволен этим замечанием. По его словам, ему не раз приходилось слышать по поводу этой самой Ельцовой упреки в надуманности и неверности изображения ее характера, и было особенно приятно узнать о сходстве ее с живым лицом.
Сходство было несомненное. Подобно героине „Фауста“, в детстве и юности я могла читать только детские книги, путешествия и хрестоматии. Исключение было сделано для одного Тургенева» (Т и его время, с. 7).
В связи с выходом в 1856 г. издания «Повестей и рассказов» И. C. Тургенева в журналах того времени появился ряд рецензий, в которых характеризовался «Фауст». А. В. Дружинин в «Библиотеке для чтения» развивал мысль, высказанную им ранее в письме к Тургеневу, о победе в его творчестве «пушкинского» начала над «гоголевским». По его словам, «…в „Муму“, в „Двух приятелях“, в „Затишье“, в „Переписке“, в „Фаусте“ поток поэзии прорывается со всею силою, срывает преграды, мечется по сторонам, и хотя не вполне получает свободное течение, но уже высказывает и богатство свое и свое истинное направление» (Б-ка Чт, 1857, № 3, отд. «Критика», с. 11).
К. С. Аксаков, давая в «Русской беседе» «Обозрение современной литературы», в духе своих славянофильских взглядов сопоставляет «Рудина», в котором «выставлен человек замечательный: с умом сильным, интересом высоким, но отвлеченный и путающийся в жизни», и «Фауста», где Тургенев «противополагает <…> дрянности человеческой уже не только простую, цельную, естественную природу души, но цельность духовного начала, нравственную истину, вечную и крепкую, – опору, прибежище и силу человека» (Рус беседа, 1857, № 5, отд. «Обозрения», т. I, с. 22).
C. С. Дудышкин в рецензии на «Повести и рассказы» И. С. Тургенева, критикуя основного героя ранних произведений Тургенева, «лишнего человека», противопоставляет ему «благородного человека, который трудится изо дня в день без громких фраз», и трактует в свете этих благонамеренных либеральных идеалов «Фауста» Тургенева. Дудышкин осуждает героя повести, нарушившего «покой одной прекрасной женщины, Ельцовой, тем, что развил ее умственный горизонт, вдохнул в нее страсть, из которой ей не было исхода. Одна смерть была необходима, и потому Ельцова умерла. Она исполнила свой долг» (Отеч Зап, 1857, № 1, отд. II, с. 23). И далее Дудышкин, перефразируя заключительные слова повести о долге и отречении, рассматривает их как ключ к новому этапу творчества Тургенева, когда писатель обретет «идеал», гармонирующий с окружающей его обстановкой, и для его героев наступит «пора деятельности, труда» (там же, с. 25).
Против этих идей Дудышкина, тенденциозно перетолковывавшего произведения Тургенева, выступил Н. Г. Чернышевский в «Заметках о журналах» (Совр, 1857, № 2) (см. наст. изд., т. 4, с. 639). Ранее, вскоре после выхода «Фауста» в свет, Чернышевский в статье о «Детстве и отрочестве» и «Военных рассказах» Л. Н. Толстого (Совр, 1856, № 12) особо оттенил стремление Тургенева отобразить «явления, положительным или отрицательным образом относящиеся к тому, что называется поэзиею жизни, и к вопросу о гуманности» и процитировал звучащие в устах героя «Фауста» тютчевские стихи в связи с впечатлением, произведенным на него Верою (см. наст. том, с. 114), чтобы передать ощущение освежающего, просветляющего воздействия «чистой юношеской души, с радостной любовью откликающейся на всё, что представляется ей возвышенным и благородным, чистым и прекрасным, как сама она». Признавая за Тургеневым лирическую способность в выражении общечеловеческих чувств, Чернышевский завершает приведенную цитату из «Фауста» важным для него выводом: «Такова же сила нравственной чистоты в поэзии» (Чернышевский, т. III, с. 422, 428).
Однако ни Чернышевский, ни Добролюбов не могли солидаризоваться и с Тургеневым, противопоставившим долг и личное счастье. Это противоречило этической системе революционных демократов, теории «разумного эгоизма», по которой долг определяется внутренним влечением, а основным источником деятельности развитой личности является разумно понятый «эгоизм». И в 1858 г. в статье «Николай Владимирович Станкевич» Добролюбов (Совр, № 4), не называя Тургенева по имени, вступил с ним в полемику. «Не так давно, – пишет Добролюбов, – один из наших даровитейших писателей высказал прямо этот взгляд, сказавши, что цель жизни не есть наслаждение, а, напротив, есть вечный труд, вечная жертва, что мы должны постоянно принуждать себя, противодействуя своим желаниям, вследствие требований нравственного долга. В этом взгляде есть сторона очень похвальная, именно – уважение к требованиям нравственного долга <…> с другой стороны, взгляд этот крайне печален потому, что потребности человеческой природы он прямо признает противными требованиям долга…» (Добролюбов, т. III, с. 67).
Позднее в статье «Благонамеренность и деятельность» (Совр, 1860, № 7), также частично направленной против Тургенева, Добролюбов, ратуя за появление в литературе образа деятеля нового типа, цельного человека, вновь упомянул «Фауста» Тургенева: «Нам не представляют внутренней работы и нравственной борьбы человека, сознавшего ложность настоящего порядка и упорно, неотступно добивающегося истины; нового Фауста никто нам и не думал изображать, хоть у нас есть даже и повесть с таким названием…» (Добролюбов, т, II, с. 248).
Чернышевский откликнулся на повесть в статье «Русский человек на rendez-vous» (Атеней, 1858, № 3). Поставив «Фауста» в связь с «Рудиным» и «Асей», Чернышевский раскрывает социальный аспект изображенного в повести конфликта. Рассматривая нерешительное «поведение» в любви героев этих произведений как показатель и для их отношения к «делу», Чернышевский разоблачает сходящего с общественной арены прежнего дворянского героя русской литературы. «В „Фаусте“, – пишет Чернышевский, – герой старается ободрить себя тем, что ни он, ни Вера не имеют друг к другу серьезного чувства; сидеть с ней, мечтать о ней – это его дело, но по части решительности, даже в словах, он держит себя так, что Вера сама должна сказать ему, что любит его <…> Не удивительно, что после такого поведения любимого человека (иначе, как „поведением“, нельзя назвать образ поступков этого господина) у бедной женщины сделалась нервическая горячка; еще натуральнее, что потом он стал плакаться на свою судьбу. Это в „Фаусте“; почти то же и в „Рудине“» (Чернышевский, т. V, с. 158–159).
В последующие годы «Фауст» продолжает привлекать внимание критики. В 1867 г. в «Отечественных записках» была опубликована критическая заметка Б. И. Утина «Аскетизм у г. Тургенева», в которой отмечаются – как характерная для воззрений Тургенева черта – элементы аскетических настроений в таких его произведениях, как «Дворянское гнездо», «Накануне», «Фауст», «Переписка», «Призраки» и «Довольно». Основы такою подхода к жизни Утин видит в философии Шопенгауэра. Рассматривая «Фауста» лишь с точки зрения отражения в нем «аскетических» идей и слишком прямолинейно толкуя заключительные слова повести, Утин обедняет ее содержание. «Смысл здесь, – пишет он, – очевидно тот же. Жизнь не любит шутить, а потому не отдавайся ей, но живи, и ты уйдешь от ее опасностей» (Отеч Зап, 1867, № 7, т. 173, кн. 2, отд. II, с. 54).
В 1870 г. Н. В. Шелгунов отозвался на выход в свет очередных томов «Сочинений И. С. Тургенева» статьей «Неустранимая утрата». Свои общие суждения о пессимистических мотивах в творчестве Тургенева, грустной лирической тональности его таланта, чуткости писателя к человеческому горю, мастерстве тонкого проникновения в женскую психологию Шелгунов подтверждает и на разборе «Фауста». Характеризуя Веру Ельцову как натуру сильную, но обреченную на гибель, и сравнивая ее судьбу с жизнью героинь других произведений Тургенева, Шелгунов спрашивает: «Что ж это за горькая судьбина? Что за преследующий фатализм? Где его корень? Отчего люди несчастны? Неужели нет выхода?» «Тургенев, – по его словам, – не дает ответа на эти вопросы. Ищите, догадывайтесь, спасайтесь, как знаете». И далее анализ повести он заключает выводом: «Любовь – болезнь, химера, говорит Тургенев, от нее не спасешься, и ни одна женщина не минует ее руки <…> Не силу активного протеста вызывает у вас Тургенев, а возбуждает какое-то непримиряющееся щемление, ищущее выхода в пассивном страдании, в молчаливом, горьком протесте». С революционно-демократических позиций осуждает Шелгунов и призыв в «Фаусте» к труду и отречению. «Жизнь есть труд, говорит Тургенев. Но разве о здоровом труде говорит Павел Александрович? Его труд есть отчаяние безнадежности, не жизнь, а смерть, не сила энергии, а упадок различных сил…» (Дело, 1870, № 6, с. 14–16).
В 1875 г. С. А. Венгеров в одном из ранних своих трудов – «Русская литература в ее современных представителях. Критико-биографический этюд. И. С. Тургенев» – отвел специальную главу «Фаусту». В основу разбора повести положена мысль о том, что нельзя «идти против естественного хода вещей, против нормального развития природных даров» (СПб., 1875. Ч. II, с. 64). Поэтому ошибаются те «близорукие судьи», говорит Венгеров, которые обвиняют героя повести в том, что он разрушил «счастье» Веры. «Когда-нибудь должна же была бы произойти брешь в стене, отделяющей ее от действительности. Следовательно, если не герой повести, то другой, третий разыграли бы его роль и открыли бы глаза Вере Николаевне, до того завешанные рукой заботливой матери» (там же, с. 69). И вывод, к которому приходит Венгеров, противостоит односторонним критическим суждениям об «аскетических» идеях повести. «Печальным предостережением возвышается перед нами симпатичная фигура Веры Ельцовой, увеличивая собою галерею привлекательных женских портретов Тургенева. В ее лице защитники свободы человеческого сердца могут почерпнуть гораздо более сильные доказательства, чем из всех жоржзандовских романов, потому что ничто не действует на нас сильнее, чем грустный финал, являющийся результатом известного нерационального явления» (там же, с. 72).
Из более поздних откликов интересен отзыв революционера-анархиста П. А. Кропоткина, который в 1907 г., как в свое время Чернышевский, обратил внимание на несостоятельность героя повести. Рассматривая «Фауста» в ряду таких повестей Тургенева, как «Затишье», «Переписка», «Яков Пасынков», «Ася», он заключает: «В них слышится почти отчаяние в образованном русском интеллигенте, который даже в любви оказывается неспособным проявить сильное чувство, которое снесло бы преграды, лежащие на его пути; даже при самых благоприятных обстоятельствах он может принести любящей его женщине только печаль и отчаяние» (Кропоткин П. Идеалы и действительность в русской литературе. СПб., 1907, с. 102).
Первый перевод «Фауста» на французский язык был сделан И. Делаво в 1856 г. (Revue des Deux Mondes, 1856, t. VI, Livraison 1-er Dеcembre, p. 581–615). По поводу этого перевода Тургенев писал В. П. Боткину 25 ноября (7 декабря) 1856 г. из Парижа: «Делаво перекатал моего „Фгуста“ и тиснул его в декабрьской книжке „Revue des 2 Mondes“ – издатель (де-Марс) приходил меня благодарить и уверял, что эта вещь имеет большой успех; а мне, ей-богу, всё равно, нравлюсь ли я французам или нет, тем более, что M-me Виардо этот „Фауст“ не понравился». Ознакомившись с переводом, В. П. Боткин сообщал Тургеневу: «Прочел я по-французски твоего „Фауста“, но он мне по-французски показался очень бледным – вся прелесть изложения пропала – словно скелет один остался» (Боткин и Т, с. 111–112). В 1858 г. перевод «Фауста» был опубликован в первом французском сборнике повестей и рассказов Тургенева, переведенных Кс. Мармье (1858, Sc?nes, I). С этого издания в 1862 г. Фр. Боденштедтом был сделан первый немецкий перевод (Russische Revue, 1862, Bd. I, Hf. I, S. 59–96), который очень понравился Тургеневу. 19 (31) октября 1862 г. он писал Фр. Боденштедту: «Не могу прежде всего не поговорить с вами о переводе моей повести „Фауст“, хотя это и немного эгоистично с моей стороны. Я только что прочел его и был буквально в восторге – это просто-напросто совершенство. (Говорю, разумеется, о переводе, а не об оригинале.) Недостаточно знать до основания русский язык – надобно еще самому быть большим стилистом для того, чтобы создать нечто столь совершенно удавшееся» (с французского). Этот перевод был им перепечатан дважды – в первом из двух вышедших томов задуманного Фр. Боденштедтом собрания сочинений Тургенева на немецком языке (Erz?hlungen von Iwan Turgenjew. Deutsch von Friedrich Bodenstedt. Autorisierte Ausgabe. M?nchen, 1864. Bd. I).
Из других прижизненных переводов «Фауста» отметим следующие: чешский (в журнале «Obrazy zivota», 1860 – перевел Vavra), два сербских перевода (в журнале «Матица», 1866, № 39–44, и «Фауст» у Новом Саду, 1877), три польских (Wedrowiec, 1868; Tydzien literacko-artystyczny. Dodatek literacki do «Kuriera Lwowskiego», 1874 и Warszawski Dziennik, 1876, № 87, 89, 92 и 98, английский (Galaxy, XIII, № 5, 6. May – June, 1872), шведский (Tourgеneff Iwan. Faust. Ber?ttelse. ?fvers?ttning af M. B. Varberg, 1875).
«Фауст» Тургенева вызвал подражания в немецкой литературе. Факт этот отмечала еще при жизни писателя немецкая критика. Так, по свидетельству Отто Глагау, автора книги «Die Russische Literatur und Iwan Turgeniew» (Berlin, 1872), под явным воздействием Тургенева был написан роман Карла Детлефа (псевдоним писательницы Клары Бауэр) «Неразрывные узы» («Unl?sliche Bande» – см. указ. соч., с. 163–164). Форма переписки двух друзей, один из которых русский писатель Сабуров, сюжетная ситуация – гибель героини как жертвы «уз», насильно навязанного ей брака и пробудившегося в ней чувства, осуждение жизни, в основу которой положено эгоистическое личное начало, и идея подчинения ее общественному долгу – всё это сближает «Неразрывные узы» с повестью Тургенева «Фауст» (см. пересказ этого романа в статье: Цебрикова М. Немецкие романы из русской жизни. – Неделя, 1874, № 46, с. 1672–1674).
Условные сокращения
Горбачева, Молодые годы, Т – Горбачева В. Н. Молодые годы Тургенева. (По неизд. материалам). Казань, 1926.
Станкевич, Переписка – Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840 / Ред. и изд. Алексея Станкевича. М., 1914.
Стасюлевич – Стасюлевич M. M. и его современники в их переписке. СПб., 1911–1913. Т. I–V.
Т, Рудин, 1936 – Тургенев И. С. Рудин. Дворянское гнездо. 2-е изд. М.; Л.: Academia, 1936.
Творч путь Т – Творческий путь Тургенева. Сборник статей под редакцией Н. Л. Бродского. Пг.: Сеятель, 1923.
Ausgew?hlte Werke – Iwan Turgеnjew’s Ausgew?hlte Werke. Autorisierte Ausgabe, Mitau – Hamburg, E. Behre’s Verlag, 1869–1884.
Dolch — Dolch Oscar. Geschichte des deutschen Studententhums von der Gr?ndung der deutschen Universit?ten bis zu den deutschen Freihetskriegen. Leipzig, 1858.
Tageb?cher — Varnbagen K.-A. Tageb?cher, 1861–1905, Bd. I–XV.
notes
Сноски
1
Отречься <от своих желаний> должен ты, отречься (нем.).
2
в ракурсе (франц.).
3
«Развращенного крестьянина» (франц.).
4
Эта книга принадлежит девице Евдокии Лавриной (франц.).
5
навязчивые идеи (франц.).