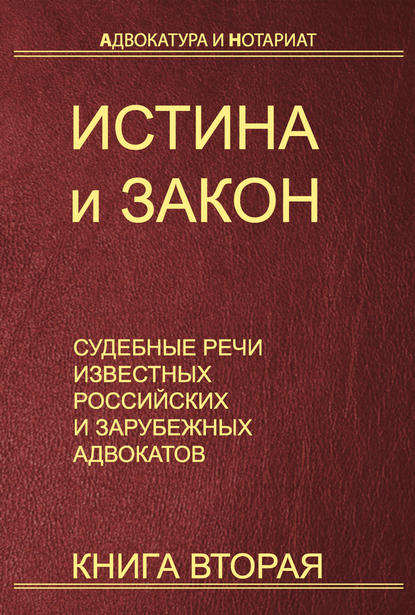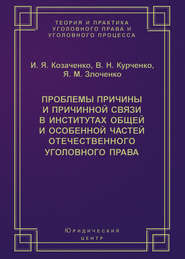По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Истина и закон. Судебные речи известных российских и зарубежных адвокатов. Книга 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но если это человек легкомысленный и вздорный, то упорство, с которым он, вопреки опасностям и, не страшась очевидной гибели, следует одной идее, может быть объяснено только необыкновенными выгодами. С другой стороны, если презрение – лучший ответ на пошлые любезности и беспокойство целой семьи, то разве до тех пор, пока угрозы не обращены к исполнению. За этой границей – как не мог не видеть сам ла Ронсьер – все кончено. Таким образом, переходя от слов к делу, он должен был иметь серьезный противовес невзгодам, логически вытекающим из преступления, могучий расчет, способный вознаградить за потерю доброго имени и позор всей жизни.
Станем же искать мотив. Найдем – будет грозная улика. А если не отыщем, на чем построим обвинительный приговор?
Не очевидно ли, что без выгоды и причины подсудимый не может быть виноват.
Где же выгода? О, говорят, в разных направлениях.
Да, господа обвинители, вами намечено их несколько, и притом самых постыдных, невероятных, но, увы, противоречащих друг другу, что изобличает ваше бессилие доказать хотя бы одну.
Он был влюблен в госпожу Морель-мать, инсинуируете вы. Он и теперь ее любит. Прекрасно, что же оказывается? Скромность, кажется, не военная добродетель, но ла Ронсьер предпринимает все, чтобы скрыть эту любовь. Радушно встречаемый генералом, он, вы знаете, может часто беседовать с его женой и, конечно, обольщая себя самого решить: я доберусь до ее сердца, покорю неприступность честной женщины вниманием и предупредительностью. Вот что он должен был бы сказать себе, а действует наоборот: почти не ходит к Морелям – он бывал там два или три раза всего. Говорил с барыней? Ни разу. Кланяясь при входе, пытался ли взглядом, невольным движением сердца намекнуть ей о своем чувстве? Никогда! Его любви госпожа Морель не подозревала. Теряя голову, окончательно сходя с ума, странный человек, ни разу не заикнулся о своих страданиях, решительно забыл, что нельзя обольстить, не ухаживая, что достигнуть сердца женщины, победить обычную для нее осторожность и целомудрие можно, только будучи самым скромным, надежным из ее поклонников. Ничего подобного. Влюбленный до безумия, готовый в каждое мгновение разразиться страшными угрозами, отомстить жестоко, он твердо владеет собой: слово, жест никогда не изменили ему. Застенчивая и молчаливая на глазах у предмета страсти, его любовь выражается лишь издали и – безымянными письмами. Безымянными?.. Нет, я ошибаюсь, – письмами, в которых он тщательно изменяет почерк или, наоборот, теми, где, конечно, с целью лучше замаскировать себя он усердно подписывается: Э. де ла Рон…
Да будет разрешено мне прочитать вновь первое из этих писем. Там говорят о любви и вот каким языком:
«Я трепещу желанием, называя имя того, кто обожает вас. Это моя первая любовь: благоговение не может быть неприятно. Надеюсь, что все, написанное мной вашей дочери, не обеспокоило вас.
Во-первых, это правда, а, во-вторых, учить Марию я начал не прежде, чем всеми средствами убедился, что вы ее не любите. У меня готов великий проект и если он не годен здесь, в Сомюре, то станет гибелью Марии в Париже, зимой. На ее счет я уже послал около тридцати безымянных писем ее парижским знакомым, госпоже де Б., находящейся теперь в Невшателе, госпоже де М., которая живет в Ансиле-Франк, и т. д. Отсюда благоволите убедиться, что я знаю все. Сегодня буду недалеко от вашего дома. Если бы вам случилось выйти, позвольте своему покорному слуге надеяться, что выражения его почтительной любви отвергнуты не будут».
Обдумывая это письмо, мы невольно убеждаемся, что предположение, будто ла Ронсьер кинулся в анонимную переписку из любви к Морель-матери, не имеет оснований. Подсудимый, как вынуждены признать сами противники мои, никогда не был в нее влюблен. Если письмо принадлежит ему, то лучших доказательств не бывает.
Значит, надо искать другой побудительной причины. Он хочет жениться на дочери. Это гораздо ближе к истине, потому что Мария, как слышно, богатая наследница.
Господа! Во время следственной волокиты, но уже после заключения экспертов, в течение целых восьми месяцев ломая голову с целью решить, откуда взялось гибельное для него обвинение, и перебирая тысячи сумасбродных идей, затемнявших его разум, ла Ронсьер сказал: «Может быть, меня хотели женить на этой девочке», – и сказал глупость…
Его, бедняка офицера, у которого, кроме имени отца, нет ничего? Как смеет он помышлять о дочери генерала, барона Мореля, о такой богатой невесте и красавице! Какой вздор! А, с другой стороны, понятно, что если нечто подобное и могло быть в виду, то и тогда не усматривалось надобности вводить в заговор целую семью.
Но допустим, что он сам хотел жениться. Признаю, что это могучий двигатель, способный толкнуть на многие ухищрения. Здесь я больше понимаю. С чего же начнет Ронсьер? Припомним его первые слова барышне: «У вас очаровательная мать. Какое несчастье, что вы на нее так мало похожи». Столь же подходящее средство увлечь девушку он употребляет и в письме к ней, говоря, что влюблен в ее мать. О, господи, какой несообразный человек! Да это еще что. Желая понравиться матери, он пишет: «Ваша дочь отвратительна и глупа; я хочу ее сделать несчастной и говорю вам это, зная, что вы ее не любите». А в письме к дочери, вынужденный бороться со всякими препятствиями, он рубит с плеча:
«Я вас терпеть не могу, а вашу мать обожаю. Полюбите меня!».
Далее, заметив ее «презрительную улыбку», он спешит напомнить Марии: «Такой негодяй, как я…». Еще позже, достигая решительной победы, грозит: «Я сделаю из вас несчастнейшее в мире существо… Выходите за меня замуж».
Ах, господа, лучше убить свою дочь, чем предать ее такому человеку!
Наконец, совершив ужасное насилие, он вместо мольбы: «О, я несчастный! Любовь, пламенная страсть к вам привели меня к злодеянию; если я дерзнул проникнуть в вашу комнату, осрамить, покуситься на вашу честь, ради бога, простите мое сумасбродство, пощадите меня» – упорно изобретает новые оскорбления.
Заставить полюбить себя хочет обидами, принудить к замужеству – предсказаниями самого страшного будущего. Убейте вашу дочь, убейте, говорю я, но не отдавайте на произвол мерзавцу, которому нипочем сказать: «Ваша жизнь будет вечным горем и страданием»; чудовищу, в письмах которого есть строки: «Вас обяжут выйти за меня, и эта свадьба – моя лучшая месть»; исчадию ада, которое, изранив слабейшего и запятнав себя его кровью, торжествует, восклицая: «Тяжкие для Вас узы соединят нас!».
Предлагаю каждому ответить: с целью ли жениться на Марии Морель это все было писано?
Но есть еще одно предположение.
Могло быть исключительное намерение мучить семью Мореля, позорить ее. Ведь злоба иногда служит сама себе целью. Рассудим хорошенько. Месяц тому назад, в начале процесса, когда грозное обвинение знали только по слухам, когда не видели, какую массу невозможного заключает оно, повсюду искали мотива преступления и найти не могли. Тогда было решено: это выходец преисподней, сам сатана! Он творит зло без пользы для себя. Вот почему я был вынужден обратиться к прошлому подсудимого.
Теперь, зная его, мы уже не вправе слушать обвинителей, что это злодей из любви к искусству. Вам, господа, не поверят, ибо не сатана, а человек здесь налицо; и нет в нем ничего чудовищного, сколько бы ни измышляли вы!
Тем не менее рассмотрим и последний мотив. Установлено, что господин д’Эстульи был хорошо принят в доме Морелей. Я далек от мысли, что ему оказывали внимание, которое можно было бы порицать. Согласен, однако, что ла Ронсьер не мог без зависти глядеть на это рождение любви, игнорировать счастливую и разделяемую привязанность. Гений зла страдает от радости другого и должен был мешать ей.
Как же он возьмется за дело?
Увы, столь же неловко, как и в своих попытках понравиться Марии. Достигнув изумительного совершенства в подделке ее почерка, он адресует д’Эстульи послание за подписью Марии Морель, изготовленное так, что наиболее сведущие люди приходят в замешательство и не могут открыть подлога. Завоевав такой результат, он, конечно, потешается над влюбленным… Ничуть не бывало. Ради первого предостережения он тщательно приписывает: «Это я изощрился так в почерке барышни и дарю вам образец!».
Я окончательно теряюсь. Невозможно, чтобы события шли этим путем! Рассчитывая помешать успехам д’Эстульи и затратив на подлог массу времени, посвятив ему жизнь, будущее, лучшие надежды, человек неспособен уничтожать сам в решительный момент одним словом все свои труды и расчеты, так долго и усердно обдумываемые. Между тем вы ясно видите, что подготовленное с такими усилиями он отметает именно в последнюю минуту. Ведь он, а никто другой, пишет: «Я подделал ее почерк и вам шлю на пробу». Еще раз, – это не только невероятно, но это невозможно.
Отсюда я заключаю, что, начав исправляться и стремясь приобрести расположение отца и начальства, ла Ронсьер не мог быть автором анонимных писем. В жену генерала он не был влюблен, а любя, не стал бы оскорблять таким образом. Жениться на Марии Морель он также не имел в виду, потому что прибегать к таким низким средствам значило покрывать себя стыдом и ненавистью, идти наперекор здравому смыслу. Творя зло ради зла, он не показывал бы своих карт, говоря: «Берегитесь! Я обманываю вас; письма заведомо подложены».
Наконец, совершив нападение, чем кончает он? Раньше побега достает из кармана и кладет на стол письмо, где изложено все, что сделал. В четыре часа утра пишет другое, вечером – третье. Для какой надобности? С единственной целью подготовить данные прокурору и объявить: «Не заблуждайтесь! Я проник в эту комнату, хотел убить вашу дочь и нанес ей два сильных удара ножом; не утешайте себя: я ее…, я ее изнасиловал!». Он, значит, хвастается даже тем, чего не было. Это же совсем непонятная и неслыханная предупредительность. Она звучит странно, даже в настоящем деле, где все беспримерно.
Вот до какой степени невероятно преступление и непостижимы его приемы. Все похоже на сон, бред, на фантастическую и ужасную сказку из «Тысячи и одной ночи».
Кто же распространял эти безумные письма, – ведь их бессмысленность еще выше дерзости? Кто так щедро сеял их в квартире генерала? Не ла Ронсьер, конечно, ибо он бывал там не чаще одного раза в месяц, да и то не везде. Кто же мог проникать в самые таинственные уголки? Очевидно – из своих; некто, живущий в доме и притом не обязанный находиться в каком-нибудь одном месте обширного здания; существо, близкое жене и дочери Мореля, с ними неразлучное; падший ангел, день и ночь реющий над их жильем; могучая, всегда присущая, но никем не видимая сила… Нет секрета, которого она бы не знала, нет семейной тайны, которой бы не выдала!
Так, Марии ставят пиявки; ее прячут, и этого никто знает. Но демон разведал и описывает. Имена лучших друзей, лиц, давно отсутствующих, даже тех, о которых в семье не вспоминают никогда, ему одинаково известны. Знает он и девицу Б… из Невшателя, и госпожу М… из Ансиле-Франк, не забыл и о близких отношениях семьи генерала к игуменье угла улицы Св. Доминика… Пред ним все открыто. Как-то, начав письменную работу, сын Мореля оторвался на минуту пожелать доброго утра матери; возвращается – демон уже посетил его комнату и на его работе оставил письмо. В другой раз супруги Морель беседуют, шепотом в самой удаленной части квартиры, о семейных делах. Сатана их настигает, говоря: «Я перехватил вашу тайну». Уже после отъезда ла Ронсьера Мария Морель пишет Жиске. Дьявол, узнав об этом, грозит девушке: «Ваш покровитель, Жиске, не спасет вас».
Господи, боже мой! Какими же путями добывались сведения? Каждый шаг, всякое слово, кто бы ни сказал его, – все записано и повторено?! Откуда ла Ронсьер мог черпать все это? Решительно необъяснимо. Никто не раскрыл вопроса.
Уж не уносимся ли мы очарованием в неведомые страны, созданные фантазией поэтов, в те сказочные замки с мрачными, извивающимися коридорами, где даже стены подслушивают, а выходцы с того света овладевают всякой тайной, самыми сокровенными излияниями души?!
Но, какова бы ни была мудрость агентов подсудимого, они неизбежно должны попасть впросак. Сколько ходов предстоит сделать им. Взгляните, вот они, вместе или по очереди, отправляются за приказаниями в тот вертеп, где обитает чудовище; вот бегут они во всякое время дня и ночи то узнавать, то исполнять желания своего повелителя! А между тем и в доме генерала не дремлют. Наблюдая друг за другом, каждый из его слуг наперебой старается доложить хозяину приятную новость. Каждый следит за товарищем неотступно, а один, начав стричься и вспомнив нечто вздорное, даже не высидел до конца и бежит рассказать господам немедленно! Каким же образом столь частые и необходимые сношения могли оставаться незамеченными в маленьком городке, где все знают, где идут сплетни и пересуды неусыпные?!
Нет, немыслимо найти соучастников ла Ронсьера. Пристегнув к нему двух несчастных жертв и посадив их на эту скамью, вам говорят: вот его сподвижники! И, однако, никто не сказал, где они могли видеться и когда имели возможность беседовать.
За все время неутомимой бдительности уездных кумушек, среди упорных, долгих и преступных мероприятий, несмотря на крайнюю энергию в преследовании злостной цели, – ни одного неосторожного шага, ни единого сношения с главным обвиняемым!
Заметьте, в другом направлении, господа, что ему приходилось верить многим людям одновременно. Какова должна быть смелость, расточающая подобное доверие! Какое беспримерное счастье не обмануться ни разу!
Я не замедлю указать, в каком числе подсобников он нуждался и скольким слугам Мореля был обязан передать тайну, прося их содействия. Не забывайте, что все они имеют хорошие места и что в доме генерала обращаются с ними ласково. Но это ни к чему не ведет. Не нашлось никого, кто бы, придя к самому генералу или кому-либо другому, сказал: есть человек, предлагающий мне сеять раздор в вашем семействе, позорить ваш дом, поддерживать огонь безымянных писем, которые, мне известно, жгут и разъедают ваше сердце… Такого слуги не оказалось. В отношении своего доброго хозяина все они предатели и все неизменно верны его врагу!
О, возразят мне, эти люди куплены, золото принудило их молчать и обеспечило от измены. Но ведь вы знаете, что у подсудимого были долги и, если смею так выразиться, ни гроша за душой. В одном из его писем, которые посылались, очевидно, не ради настоящего дела и в которых он искренен, есть такая фраза: «У меня до конца месяца остается всего сорок су, да восемь франков я должен Амберту». Значит, прислуга Мореля жертвует собственным благополучием, местом, покоем из-за нищего, который не может оплатить ее службы и предательства.
Чем дальше в лес, тем больше дров. Все открыто; добились, наконец, что виноват ла Ронсьер… Одному богу известно, в чем виноват! Происходит дуэль, и его гонят из полка. В Сомюре он становится притчей во языцех. Еще немного, и его соучастник Самуил также обнаружен и, как он, изгнан. Обольститель бежит, его наперсник, в свою очередь, – за ним. Пускай он теперь найдет сообщников! Вдали от Морелей, скитаясь где день, где ночь, покрытый стыдом и уже погубив Самуила, пусть он отыщет людей, готовых вновь помогать ему! Новых соучастников!..
Они налицо, и опять в самом доме генерала; они всегда в его распоряжении. Негодяи или, скорее, храбрецы, они идут против всех ужасов закона и, непонятно, во имя каких благ, рискуют продолжать его сумасбродную, презренную затею!
Но и это не все. Обладая изумительной силой воли, даже Морель выходит из терпения. Его дочь тяжко оскорблена и думает о самоубийстве. Он пишет Жиске. Правосудие открыло свое течение, возмездие обеспечено. Жалкие люди! Берегитесь – настигают вас. Меч уже в руках закона; еще мгновение, и вы будете уничтожены. Все подозреваемые, бегите, скройтесь, потому что сейчас генералу дадут блестящее и торжественное удовлетворение!
Но нет, и в такую минуту ла Ронсьер находит еще пособников.
Запомните, умоляю вас, следующий факт.
Письмо, адресованное д’Эстульи 24 ноября 1834 г., относится ко времени, когда мой клиент сидел в остроге по обвинению в тяжком уголовном преступлении. Именно в этот момент он передает письмо в Сомюр, откуда неизвестная рука, сообщник, никому неведомый, шлет его д’Эстульи. В чем заключается, письмо, где серьезная причина, вынудившая написать его?
Когда все открыто, ла Ронсьер должен был считать себя погибшим. Удержать семью генерала путем устрашения, которое заставляло ее колебаться так долго, отныне надежды не было.
Жалоба подана, обвиняемый в тюрьме, и ему уже готовят эшафот, потому что преследуют за убийство. Что может он предпринять? «Знать не знаю, ведать не ведаю» – такова единственно возможная система защиты, ибо других нет. Он это видит ясно, когда в том же письме замечает: «У меня есть только одно средство спасения – отрицать все!» – и… немедленно сознается: «Я совершил убийство!», излагает подробности, а затем своему смертельному врагу говорит: «Вот моя беззаветная исповедь». Раньше он не хотел называть соучастников. Теперь, ввиду эшафота, перечисляет их: «Горничная была в моем полном распоряжении; проник я в комнату Марии без помощи лакея. С другим лакеем генеральского дома я и сегодня веду переписку».
Таким образом, он излагает все: событие преступления, ресурсы, которыми пользовался, приметы прежних и нынешних соучастников. Привлеченный к ужасному делу, поставленный в необходимость отпираться от всего, он сам пишет обвинительный против себя акт, а правосудию готовит такие доказательства, без которых оно не могло бы обойтись. В довершение благополучия подписывается. До сих пор, делая подпись: Э. де Р. или Э. де ла Рон., он не снимал маски, хотя и столь прозрачной, что его узнавали все. На этот раз он открывает свою фамилию полностью. Но как? Пишет не La Ronsiere, как надо, а La Ranciere…; окончательно растерявшись и в суматохе позабыв даже чувство самосохранения, он утратил, кстати, и орфографию собственной фамилии. (Смех)
Где цель писать из недр острога такое письмо? Вымолить у д’Эстульи пощаду? Да разве вы смели надеяться? Разве могли вы забыть волнения и отчаяние, которыми отравляли жизнь несчастной семьи? Бесчестие, гибель юной девушки разве так скоро улетучились из вашей памяти? А всеобщее негодование, вас преследующее, а эта жалоба, которая, сверкнув раз, никогда и ничем уже не может быть остановлена и во имя которой собирают столько данных, повсюду разыскивают свидетелей? Вы просите милости у д’Эстульи? Безумный! Не он ли представил ваши письма, вооружил судебную власть самыми сильными доказательствами, не ему ли, обездоленному вашими мерзостями, подобает делать теперь все, чтобы уничтожить вас?
Станем же искать мотив. Найдем – будет грозная улика. А если не отыщем, на чем построим обвинительный приговор?
Не очевидно ли, что без выгоды и причины подсудимый не может быть виноват.
Где же выгода? О, говорят, в разных направлениях.
Да, господа обвинители, вами намечено их несколько, и притом самых постыдных, невероятных, но, увы, противоречащих друг другу, что изобличает ваше бессилие доказать хотя бы одну.
Он был влюблен в госпожу Морель-мать, инсинуируете вы. Он и теперь ее любит. Прекрасно, что же оказывается? Скромность, кажется, не военная добродетель, но ла Ронсьер предпринимает все, чтобы скрыть эту любовь. Радушно встречаемый генералом, он, вы знаете, может часто беседовать с его женой и, конечно, обольщая себя самого решить: я доберусь до ее сердца, покорю неприступность честной женщины вниманием и предупредительностью. Вот что он должен был бы сказать себе, а действует наоборот: почти не ходит к Морелям – он бывал там два или три раза всего. Говорил с барыней? Ни разу. Кланяясь при входе, пытался ли взглядом, невольным движением сердца намекнуть ей о своем чувстве? Никогда! Его любви госпожа Морель не подозревала. Теряя голову, окончательно сходя с ума, странный человек, ни разу не заикнулся о своих страданиях, решительно забыл, что нельзя обольстить, не ухаживая, что достигнуть сердца женщины, победить обычную для нее осторожность и целомудрие можно, только будучи самым скромным, надежным из ее поклонников. Ничего подобного. Влюбленный до безумия, готовый в каждое мгновение разразиться страшными угрозами, отомстить жестоко, он твердо владеет собой: слово, жест никогда не изменили ему. Застенчивая и молчаливая на глазах у предмета страсти, его любовь выражается лишь издали и – безымянными письмами. Безымянными?.. Нет, я ошибаюсь, – письмами, в которых он тщательно изменяет почерк или, наоборот, теми, где, конечно, с целью лучше замаскировать себя он усердно подписывается: Э. де ла Рон…
Да будет разрешено мне прочитать вновь первое из этих писем. Там говорят о любви и вот каким языком:
«Я трепещу желанием, называя имя того, кто обожает вас. Это моя первая любовь: благоговение не может быть неприятно. Надеюсь, что все, написанное мной вашей дочери, не обеспокоило вас.
Во-первых, это правда, а, во-вторых, учить Марию я начал не прежде, чем всеми средствами убедился, что вы ее не любите. У меня готов великий проект и если он не годен здесь, в Сомюре, то станет гибелью Марии в Париже, зимой. На ее счет я уже послал около тридцати безымянных писем ее парижским знакомым, госпоже де Б., находящейся теперь в Невшателе, госпоже де М., которая живет в Ансиле-Франк, и т. д. Отсюда благоволите убедиться, что я знаю все. Сегодня буду недалеко от вашего дома. Если бы вам случилось выйти, позвольте своему покорному слуге надеяться, что выражения его почтительной любви отвергнуты не будут».
Обдумывая это письмо, мы невольно убеждаемся, что предположение, будто ла Ронсьер кинулся в анонимную переписку из любви к Морель-матери, не имеет оснований. Подсудимый, как вынуждены признать сами противники мои, никогда не был в нее влюблен. Если письмо принадлежит ему, то лучших доказательств не бывает.
Значит, надо искать другой побудительной причины. Он хочет жениться на дочери. Это гораздо ближе к истине, потому что Мария, как слышно, богатая наследница.
Господа! Во время следственной волокиты, но уже после заключения экспертов, в течение целых восьми месяцев ломая голову с целью решить, откуда взялось гибельное для него обвинение, и перебирая тысячи сумасбродных идей, затемнявших его разум, ла Ронсьер сказал: «Может быть, меня хотели женить на этой девочке», – и сказал глупость…
Его, бедняка офицера, у которого, кроме имени отца, нет ничего? Как смеет он помышлять о дочери генерала, барона Мореля, о такой богатой невесте и красавице! Какой вздор! А, с другой стороны, понятно, что если нечто подобное и могло быть в виду, то и тогда не усматривалось надобности вводить в заговор целую семью.
Но допустим, что он сам хотел жениться. Признаю, что это могучий двигатель, способный толкнуть на многие ухищрения. Здесь я больше понимаю. С чего же начнет Ронсьер? Припомним его первые слова барышне: «У вас очаровательная мать. Какое несчастье, что вы на нее так мало похожи». Столь же подходящее средство увлечь девушку он употребляет и в письме к ней, говоря, что влюблен в ее мать. О, господи, какой несообразный человек! Да это еще что. Желая понравиться матери, он пишет: «Ваша дочь отвратительна и глупа; я хочу ее сделать несчастной и говорю вам это, зная, что вы ее не любите». А в письме к дочери, вынужденный бороться со всякими препятствиями, он рубит с плеча:
«Я вас терпеть не могу, а вашу мать обожаю. Полюбите меня!».
Далее, заметив ее «презрительную улыбку», он спешит напомнить Марии: «Такой негодяй, как я…». Еще позже, достигая решительной победы, грозит: «Я сделаю из вас несчастнейшее в мире существо… Выходите за меня замуж».
Ах, господа, лучше убить свою дочь, чем предать ее такому человеку!
Наконец, совершив ужасное насилие, он вместо мольбы: «О, я несчастный! Любовь, пламенная страсть к вам привели меня к злодеянию; если я дерзнул проникнуть в вашу комнату, осрамить, покуситься на вашу честь, ради бога, простите мое сумасбродство, пощадите меня» – упорно изобретает новые оскорбления.
Заставить полюбить себя хочет обидами, принудить к замужеству – предсказаниями самого страшного будущего. Убейте вашу дочь, убейте, говорю я, но не отдавайте на произвол мерзавцу, которому нипочем сказать: «Ваша жизнь будет вечным горем и страданием»; чудовищу, в письмах которого есть строки: «Вас обяжут выйти за меня, и эта свадьба – моя лучшая месть»; исчадию ада, которое, изранив слабейшего и запятнав себя его кровью, торжествует, восклицая: «Тяжкие для Вас узы соединят нас!».
Предлагаю каждому ответить: с целью ли жениться на Марии Морель это все было писано?
Но есть еще одно предположение.
Могло быть исключительное намерение мучить семью Мореля, позорить ее. Ведь злоба иногда служит сама себе целью. Рассудим хорошенько. Месяц тому назад, в начале процесса, когда грозное обвинение знали только по слухам, когда не видели, какую массу невозможного заключает оно, повсюду искали мотива преступления и найти не могли. Тогда было решено: это выходец преисподней, сам сатана! Он творит зло без пользы для себя. Вот почему я был вынужден обратиться к прошлому подсудимого.
Теперь, зная его, мы уже не вправе слушать обвинителей, что это злодей из любви к искусству. Вам, господа, не поверят, ибо не сатана, а человек здесь налицо; и нет в нем ничего чудовищного, сколько бы ни измышляли вы!
Тем не менее рассмотрим и последний мотив. Установлено, что господин д’Эстульи был хорошо принят в доме Морелей. Я далек от мысли, что ему оказывали внимание, которое можно было бы порицать. Согласен, однако, что ла Ронсьер не мог без зависти глядеть на это рождение любви, игнорировать счастливую и разделяемую привязанность. Гений зла страдает от радости другого и должен был мешать ей.
Как же он возьмется за дело?
Увы, столь же неловко, как и в своих попытках понравиться Марии. Достигнув изумительного совершенства в подделке ее почерка, он адресует д’Эстульи послание за подписью Марии Морель, изготовленное так, что наиболее сведущие люди приходят в замешательство и не могут открыть подлога. Завоевав такой результат, он, конечно, потешается над влюбленным… Ничуть не бывало. Ради первого предостережения он тщательно приписывает: «Это я изощрился так в почерке барышни и дарю вам образец!».
Я окончательно теряюсь. Невозможно, чтобы события шли этим путем! Рассчитывая помешать успехам д’Эстульи и затратив на подлог массу времени, посвятив ему жизнь, будущее, лучшие надежды, человек неспособен уничтожать сам в решительный момент одним словом все свои труды и расчеты, так долго и усердно обдумываемые. Между тем вы ясно видите, что подготовленное с такими усилиями он отметает именно в последнюю минуту. Ведь он, а никто другой, пишет: «Я подделал ее почерк и вам шлю на пробу». Еще раз, – это не только невероятно, но это невозможно.
Отсюда я заключаю, что, начав исправляться и стремясь приобрести расположение отца и начальства, ла Ронсьер не мог быть автором анонимных писем. В жену генерала он не был влюблен, а любя, не стал бы оскорблять таким образом. Жениться на Марии Морель он также не имел в виду, потому что прибегать к таким низким средствам значило покрывать себя стыдом и ненавистью, идти наперекор здравому смыслу. Творя зло ради зла, он не показывал бы своих карт, говоря: «Берегитесь! Я обманываю вас; письма заведомо подложены».
Наконец, совершив нападение, чем кончает он? Раньше побега достает из кармана и кладет на стол письмо, где изложено все, что сделал. В четыре часа утра пишет другое, вечером – третье. Для какой надобности? С единственной целью подготовить данные прокурору и объявить: «Не заблуждайтесь! Я проник в эту комнату, хотел убить вашу дочь и нанес ей два сильных удара ножом; не утешайте себя: я ее…, я ее изнасиловал!». Он, значит, хвастается даже тем, чего не было. Это же совсем непонятная и неслыханная предупредительность. Она звучит странно, даже в настоящем деле, где все беспримерно.
Вот до какой степени невероятно преступление и непостижимы его приемы. Все похоже на сон, бред, на фантастическую и ужасную сказку из «Тысячи и одной ночи».
Кто же распространял эти безумные письма, – ведь их бессмысленность еще выше дерзости? Кто так щедро сеял их в квартире генерала? Не ла Ронсьер, конечно, ибо он бывал там не чаще одного раза в месяц, да и то не везде. Кто же мог проникать в самые таинственные уголки? Очевидно – из своих; некто, живущий в доме и притом не обязанный находиться в каком-нибудь одном месте обширного здания; существо, близкое жене и дочери Мореля, с ними неразлучное; падший ангел, день и ночь реющий над их жильем; могучая, всегда присущая, но никем не видимая сила… Нет секрета, которого она бы не знала, нет семейной тайны, которой бы не выдала!
Так, Марии ставят пиявки; ее прячут, и этого никто знает. Но демон разведал и описывает. Имена лучших друзей, лиц, давно отсутствующих, даже тех, о которых в семье не вспоминают никогда, ему одинаково известны. Знает он и девицу Б… из Невшателя, и госпожу М… из Ансиле-Франк, не забыл и о близких отношениях семьи генерала к игуменье угла улицы Св. Доминика… Пред ним все открыто. Как-то, начав письменную работу, сын Мореля оторвался на минуту пожелать доброго утра матери; возвращается – демон уже посетил его комнату и на его работе оставил письмо. В другой раз супруги Морель беседуют, шепотом в самой удаленной части квартиры, о семейных делах. Сатана их настигает, говоря: «Я перехватил вашу тайну». Уже после отъезда ла Ронсьера Мария Морель пишет Жиске. Дьявол, узнав об этом, грозит девушке: «Ваш покровитель, Жиске, не спасет вас».
Господи, боже мой! Какими же путями добывались сведения? Каждый шаг, всякое слово, кто бы ни сказал его, – все записано и повторено?! Откуда ла Ронсьер мог черпать все это? Решительно необъяснимо. Никто не раскрыл вопроса.
Уж не уносимся ли мы очарованием в неведомые страны, созданные фантазией поэтов, в те сказочные замки с мрачными, извивающимися коридорами, где даже стены подслушивают, а выходцы с того света овладевают всякой тайной, самыми сокровенными излияниями души?!
Но, какова бы ни была мудрость агентов подсудимого, они неизбежно должны попасть впросак. Сколько ходов предстоит сделать им. Взгляните, вот они, вместе или по очереди, отправляются за приказаниями в тот вертеп, где обитает чудовище; вот бегут они во всякое время дня и ночи то узнавать, то исполнять желания своего повелителя! А между тем и в доме генерала не дремлют. Наблюдая друг за другом, каждый из его слуг наперебой старается доложить хозяину приятную новость. Каждый следит за товарищем неотступно, а один, начав стричься и вспомнив нечто вздорное, даже не высидел до конца и бежит рассказать господам немедленно! Каким же образом столь частые и необходимые сношения могли оставаться незамеченными в маленьком городке, где все знают, где идут сплетни и пересуды неусыпные?!
Нет, немыслимо найти соучастников ла Ронсьера. Пристегнув к нему двух несчастных жертв и посадив их на эту скамью, вам говорят: вот его сподвижники! И, однако, никто не сказал, где они могли видеться и когда имели возможность беседовать.
За все время неутомимой бдительности уездных кумушек, среди упорных, долгих и преступных мероприятий, несмотря на крайнюю энергию в преследовании злостной цели, – ни одного неосторожного шага, ни единого сношения с главным обвиняемым!
Заметьте, в другом направлении, господа, что ему приходилось верить многим людям одновременно. Какова должна быть смелость, расточающая подобное доверие! Какое беспримерное счастье не обмануться ни разу!
Я не замедлю указать, в каком числе подсобников он нуждался и скольким слугам Мореля был обязан передать тайну, прося их содействия. Не забывайте, что все они имеют хорошие места и что в доме генерала обращаются с ними ласково. Но это ни к чему не ведет. Не нашлось никого, кто бы, придя к самому генералу или кому-либо другому, сказал: есть человек, предлагающий мне сеять раздор в вашем семействе, позорить ваш дом, поддерживать огонь безымянных писем, которые, мне известно, жгут и разъедают ваше сердце… Такого слуги не оказалось. В отношении своего доброго хозяина все они предатели и все неизменно верны его врагу!
О, возразят мне, эти люди куплены, золото принудило их молчать и обеспечило от измены. Но ведь вы знаете, что у подсудимого были долги и, если смею так выразиться, ни гроша за душой. В одном из его писем, которые посылались, очевидно, не ради настоящего дела и в которых он искренен, есть такая фраза: «У меня до конца месяца остается всего сорок су, да восемь франков я должен Амберту». Значит, прислуга Мореля жертвует собственным благополучием, местом, покоем из-за нищего, который не может оплатить ее службы и предательства.
Чем дальше в лес, тем больше дров. Все открыто; добились, наконец, что виноват ла Ронсьер… Одному богу известно, в чем виноват! Происходит дуэль, и его гонят из полка. В Сомюре он становится притчей во языцех. Еще немного, и его соучастник Самуил также обнаружен и, как он, изгнан. Обольститель бежит, его наперсник, в свою очередь, – за ним. Пускай он теперь найдет сообщников! Вдали от Морелей, скитаясь где день, где ночь, покрытый стыдом и уже погубив Самуила, пусть он отыщет людей, готовых вновь помогать ему! Новых соучастников!..
Они налицо, и опять в самом доме генерала; они всегда в его распоряжении. Негодяи или, скорее, храбрецы, они идут против всех ужасов закона и, непонятно, во имя каких благ, рискуют продолжать его сумасбродную, презренную затею!
Но и это не все. Обладая изумительной силой воли, даже Морель выходит из терпения. Его дочь тяжко оскорблена и думает о самоубийстве. Он пишет Жиске. Правосудие открыло свое течение, возмездие обеспечено. Жалкие люди! Берегитесь – настигают вас. Меч уже в руках закона; еще мгновение, и вы будете уничтожены. Все подозреваемые, бегите, скройтесь, потому что сейчас генералу дадут блестящее и торжественное удовлетворение!
Но нет, и в такую минуту ла Ронсьер находит еще пособников.
Запомните, умоляю вас, следующий факт.
Письмо, адресованное д’Эстульи 24 ноября 1834 г., относится ко времени, когда мой клиент сидел в остроге по обвинению в тяжком уголовном преступлении. Именно в этот момент он передает письмо в Сомюр, откуда неизвестная рука, сообщник, никому неведомый, шлет его д’Эстульи. В чем заключается, письмо, где серьезная причина, вынудившая написать его?
Когда все открыто, ла Ронсьер должен был считать себя погибшим. Удержать семью генерала путем устрашения, которое заставляло ее колебаться так долго, отныне надежды не было.
Жалоба подана, обвиняемый в тюрьме, и ему уже готовят эшафот, потому что преследуют за убийство. Что может он предпринять? «Знать не знаю, ведать не ведаю» – такова единственно возможная система защиты, ибо других нет. Он это видит ясно, когда в том же письме замечает: «У меня есть только одно средство спасения – отрицать все!» – и… немедленно сознается: «Я совершил убийство!», излагает подробности, а затем своему смертельному врагу говорит: «Вот моя беззаветная исповедь». Раньше он не хотел называть соучастников. Теперь, ввиду эшафота, перечисляет их: «Горничная была в моем полном распоряжении; проник я в комнату Марии без помощи лакея. С другим лакеем генеральского дома я и сегодня веду переписку».
Таким образом, он излагает все: событие преступления, ресурсы, которыми пользовался, приметы прежних и нынешних соучастников. Привлеченный к ужасному делу, поставленный в необходимость отпираться от всего, он сам пишет обвинительный против себя акт, а правосудию готовит такие доказательства, без которых оно не могло бы обойтись. В довершение благополучия подписывается. До сих пор, делая подпись: Э. де Р. или Э. де ла Рон., он не снимал маски, хотя и столь прозрачной, что его узнавали все. На этот раз он открывает свою фамилию полностью. Но как? Пишет не La Ronsiere, как надо, а La Ranciere…; окончательно растерявшись и в суматохе позабыв даже чувство самосохранения, он утратил, кстати, и орфографию собственной фамилии. (Смех)
Где цель писать из недр острога такое письмо? Вымолить у д’Эстульи пощаду? Да разве вы смели надеяться? Разве могли вы забыть волнения и отчаяние, которыми отравляли жизнь несчастной семьи? Бесчестие, гибель юной девушки разве так скоро улетучились из вашей памяти? А всеобщее негодование, вас преследующее, а эта жалоба, которая, сверкнув раз, никогда и ничем уже не может быть остановлена и во имя которой собирают столько данных, повсюду разыскивают свидетелей? Вы просите милости у д’Эстульи? Безумный! Не он ли представил ваши письма, вооружил судебную власть самыми сильными доказательствами, не ему ли, обездоленному вашими мерзостями, подобает делать теперь все, чтобы уничтожить вас?