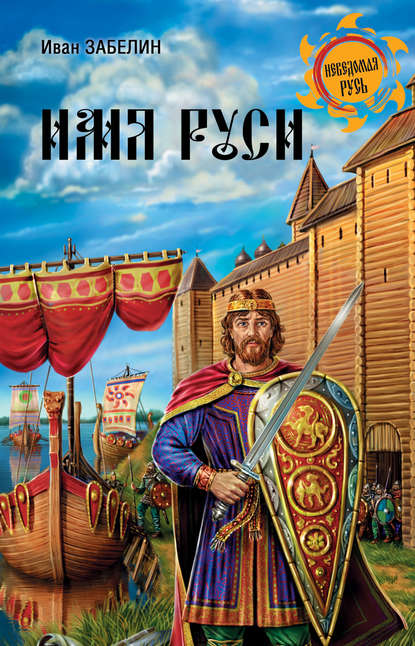По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Имя Руси
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Призвание немцев в петровское время для устройства в дикой стране образованности и порядка лучше всего объясняло до последней очевидности, что не иначе могло случиться и во времена призвания Рюрика. Кого другого могли призывать новгородцы, как не германцев? Для чего бы они призвали к себе своих родичей, таких же диких славян? Это была такая очевидная и естественная истина, выходившая из самой природы тогдашних вещей, что и ученые, и образованные умы того времени иначе не могли и мыслить. Тогда никому и в голову не могло прийти, чтобы германцы в какое-либо время были так же дики, были такими же варварами, какими были и славяне, призывавшие к себе этих образованных немецких варягов-князей. Вот почему достаточно было одной вероятности, что руссы могли быть скандинавы, провозглашенной притом ученым человеком и ученым способом, чтобы эта вероятность явилась самой простой истиной, в которой и сомневаться уже невозможно. Надо заметить, что учение о скандинавстве Руси провозгласило свою проповедь в то время, когда по русским понятиям слово «немец» значило ученость, как и слово «француз» значило образованность. Отсюда полнейшее доверие ко всем показаниям учености и образованности. Само русское образованное общество, воспитанное на беспощадном отрицании русского варварства и потому окончательно утратившее всякое понятие о самостоятельности и самобытности русского народного развития, точно так же не могло себе представить, чтобы начало русской истории произошло как-либо иначе, то есть без содействия германского и вообще иноземного племени. Если у немецких ученых и неученых людей в глубине их национального сознания лежало неотразимое убеждение, что все хорошее у иностранцев взято или принесено от германского племени, то и у русских образованных людей в глубине их национального сознания тоже лежало неотразимое решение, что все хорошее русское непременно заимствовано где-либо у иностранцев. Нам кажется, что эти два полюса национальных убеждений, немецкий – положительный и русский – отрицательный, послужили самой восприимчивой почвой для водворения и воспитания мнений о происхождении Руси от немцев со всеми последствиями, какие сами собой логически выводились из этого догмата.
Надо припомнить, однако, как встречены были немецкие мнения о скандинавстве Руси и вообще о начальной русской истории первыми русскими учеными, то есть первыми русскими людьми, которые наукой возвысились до степени академиков и могли независимо от немцев сами кое-что читать и понимать по этому вопросу.
После Байера о скандинавстве варягов заговорил академик и государственный императорский историограф Миллер, досточтимый ученый, который впоследствии оказал русской исторической науке многочисленные пользы, хотя на первых порах своей ученой деятельности претерпел немалое крушение, которое, быть может, послужило отрезвляющим поводом к более правильному пониманию основных задач его ученой изыскательности. В 1749 году по поручению Академии к торжественному собранию он написал речь, предметом которой избрал темный вопрос: «О происхождении народа и имени российского», где по Байеру доказывал, что варяги были скандинавы, то есть шведы, что имя русь взято у чухонцев (финнов), которые шведов называют «россалейна». В то самое время у нас существовали очень враждебные отношения к Швеции. Вопрос, таким образом, относительно своего скандинавского решения по естественной причине принимал некоторый политический оттенок, и сами же немецкие ученые (Шумахер) сознавали, что предмет рассуждения был скользкий. Но не предмет, а именно его решение по тогдашним обстоятельствам переносило науку в область политики и заставило самое начальство Академии отдать речь Миллера на рассмотрение всего ученого академического собрания с особым требованием, не отыщется ли в ней чего-либо предосудительного для России. К этому еще присоединялись личные вражды между академиками. Большинством голосов речь была осуждена «как предосудительная России».
«Уже напечатанная речь была истреблена по наущению Ломоносова», – пишет в своих записках Шлецер. В своем «Несторе» он к этому прибавляет: «Один человек (Ломоносов) донес Двору, что это мнение оскорбляет честь государства. Миллеру запретили говорить речь». «Ныне трудно поверить гонению, претерпенному автором за сию диссертацию, – пишет Карамзин. – Академики по указу судили ее: на всякую страницу делали возражение. История кончилась тем, что Миллер занемог от беспокойства, и диссертацию, уже напечатанную, запретили». – «Речь не была читана. Грустно подумать, что причиной тому был извет Ломоносова», – повторяет Надеждин[26 - Сборник Академии наук. – Т. XIII. – С. 48; Карамзин. История государства Российского (далее: И.Г.Р.), I, пр. 111; Надеждин. Об исторических трудах в России // Библиотека для чтения. – Т. XX.]. Такие недостойные, вопиющие обвинения с легкой руки Шлецера повторялись с разными видоизменениями до последнего времени.
Теперь достоверно открылось, что всему этому делу руководителем был секретарь, «советник» Академии Шумахер. Охраняя честь и достоинство Академии, то есть академической корпорации, он первый указал начальству на сомнительные достоинства Миллерова труда.
Несмотря на то, до сих пор это дело представляется в таком свете, будто русские академики из одного квасного и недостойного патриотизма, из одного «национального пристрастия и нетерпимости» напали на ученый труд ученейшего немца и постарались устранить с поля науки, между тем как этот труд будто бы являлся «одной из первых попыток ввести научные приемы при разработке русской истории и (ввести) историческую критику, без которой-де история не мыслима как наука» [27 - В новом академическом издании «Каспий» все это дело именуется «инквизиционным судом, наряженным по доносу (уже) Теплова для обсуждения препустой речи Миллера». При этом перед доносом Теплова ставятся два вопросительных знака, которые все-таки дают надлежащий намек на действие Теплова, между тем как из писем к Теплову Шумахера весьма достоверно и очевидно открывается, с какой стороны шел этот пресловутый донос, представляющий собственно весьма простое домашнее канцелярское и секретарское действие самого Шумахера, как охранителя интересов академической корпорации. См.: Каспий. – СПб., 1875. – С. 641, 689.Вот письма Шумахера к Теплову:«7 августа 1749 г. г. Миллер представил мне свою речь на латинском языке, чтобы переслать ее в Москву (где тогда находился президент Академии г. К. Разумовский). Вот она… Прошу вас, прочтите ее внимательно. Он излагает предмет с большой эрудицией, но, по моему мнению, с малым благоразумием, ибо, во имя Господа, зачем разрушать при помощи шведских и датских писателей мнение, столько стоившее сочинителям, работавшим для прославления нации? Я не говорю более. По крайней мере, прежде напечатания ее не забудьте, м. г., напомнить его сиятельству, чтобы он приказал прочесть эту речь in pleno (лат. в полном составе. – Примеч. ред.), потому что академики, так же как и профессора, принимают в том участие, почему я желал бы, чтобы там не упоминалось о советниках…»«10 августа. Г. президент приказал Миллеру четыре месяца тому назад приготовить речь для торжественного собрания, предоставив на его волю избрать какой угодно ему предмет. До сих пор он ее не кончил и выбрал предмет самый скользкий (scabreux), который не принесет чести академии, напротив, не преминет навлечь на нее упреки и породить ей неприятелей. Всему причиной тут гордость. Так как эта речь академическая, то автору ее очень хорошо известно, что ее необходимо прочитать в конференции и рассмотреть профессорам; но он также знает, что многие не одобряют его разглагольствий, и потому-то он так долго медлит со своей речью, чтобы не оставалось времени на рассмотрение ее. Пусть только его сиятельство прикажет прочитать ее в конференции и напечатать после рассмотрения ее там…»«17 августа. Так как времени очень мало, чтобы разжевывать заключающееся в ней содержание, то было бы хорошо, когда бы его сиятельство соблаговолил приказать Миллеру высказаться гадательно, чтобы не обижать никого. Поистине это самый верный и приятный способ, потому что тогда решение предоставляется публике, которая желает быть главной, а, несмотря на то, автор, если он искусен, силой своих доказательств нечувствительно увлечет на сторону своих воззрений. И самое главное в этом случае есть то, что президент не рискует ничего своим одобрением, а профессора могут быть тем только довольны…»«21 августа. Его сиятельство прекрасно поступил, передав диссертацию г. Миллера на суд гг. профессоров. Они уже работают над ней и сделают так, что все останутся тем довольны, как равно и г. Миллер. Если бы напечатать его речь в том виде, как она есть, то все профессора согласны, что это было бы уничижением для Академии…»«24 августа. Г. Миллер не хочет уступить, а другие профессора не хотят принять ни его мнения, ни его способа изложения…»«28 августа. Фишер сказывал мне, что г. Ломоносов пишет по-латыни несравненно лучше Миллера. Так как речь последнего была наполнена ошибками против грамматики и истории и выражениями грубыми и обидными, то это все откинули, насколько позволяли время и уступчивость г. Миллера… Я говорю вам, м. г., как перед Богом, что Миллер только тогда сказал мне о своей речи, когда представил ее в канцелярию для отсылки в Москву. Правда, что, прочитав ее, я ему сказал в лицо, что не думаю, чтобы его сиятельство одобрил когда-нибудь его речь в том виде, как она есть, и что было бы лучше изложить этот предмет с большей осторожностью, чтобы не обидеть никого…»По случаю рассмотрения речи, назначенное на 6 сентября торжественное собрание Академии было отложено, почему Шумахер писал:«6 сентября. Весь город в волнении от внезапной перемены касательно торжественного собрания и каждый занят отысканием причин тому. Некоторые даже предполагают, что собрание отменено по представлению комиссара Крекшина, которого мнения противны миллеровским относительно происхождения господ русских». Так думал и сам Миллер.«7 сентября. Вы угадали: нет ни одного профессора, который бы верил, что не злосчастная речь г. Миллера была причиной расстройства торжественного собрания. Гг. профессора Струбе, Ломоносов, Тредиаковский, Фишер и два адъюнкта Крашенинников и Попов думают, что в состоянии судить о предмете…»«11 сентября. Гг. профессора и адъюнкты трудятся над речью г. Миллера, и вы, м. г., увидите, что мнение каждого из них, поданное особливо, будет весьма различествовать от того, которое он подавал с товарищами, будучи в заседании. Гг. ученые, из опасения ли, из зависти ли, очень редко высказываются о том, о чем их спрашивают. Когда хочешь знать истину о предмете, надобно непременно говорить с каждым отдельно. Так я и сделал».«16 сентября. С самого начала диссертация г. Миллера не имела чести мне понравиться, но я не находил ее столь ошибочной, как описывают гг. профессора и адъюнкты… Любезный мой друг и собрат по невзгодам! Не найдете ли вы удобным предложить его сиятельству приказать лучше на этот раз выбрать предмет из физики по математическому классу и отложить речь г. Миллера до другого времени, потому что невозможно согласить мнения гг. профессоров с авторскими, да если бы и возможно было, то надобно было бы переводить снова…»Предложение Шумахера было принято, и к предстоящему собранию стал готовить речь профессор математики Рихман.«19 октября. Гг. профессора и адъюнкты теперь трудятся над диссертацией г. Миллера и в понедельник начнут битву. Я предвижу, что она будет очень жестока, так как ни тот, ни другие не захотят отступиться от своего мнения. Не знаю, помните ли вы еще, м. г., то, что я имел честь писать к вам о диссертации г. Миллера. Помню, что я утверждал, что она написана с большой ученостью, но с малым благоразумием. Это оправдывается. Г. Байер, который писал о том же предмете в академических комментариях, излагал свои мнения с большим благоразумием, потому что употреблял все возможное старание отыскать для русского народа благородное и блистательное происхождение (по Байеру, варяги-династия были люди дворянской фамилии из Скандинавии и Дании); тогда как г. Миллер, по уверению русских профессоров, старается только об унижении русского народа. И они правы. Если бы я был на месте автора, то дал бы совсем другой оборот своей речи (Шумахер чертит ловкую программу, как бы он, польстив народному самолюбию, все-таки провел бы свою мысль. – Примеч. авт.), но он (Миллер) хотел умничать. Habeat sibi (лат. „пусть себе владеет“, то есть „и на здоровье“. – Примеч. ред.) – дорого он заплатит за свое тщеславие!»«30 октября. Профессор Миллер теперь видит, что промахнулся со своей диссертацией, потому что один Попов задал ей шах и мат, указав на столько грубых ошибок, которых он решительно не мог оправдать… Теперь он сказывается больным и не хочет более ходить в конференцию. Место на страницах 18 и 19 диссертации Рихмана приносит более чести академии, чем вся галиматья г. Миллера, которой он хочет разрушить все, что другие созидали с таким трудом». См.: Пекарский П. Дополнительные известия для биографии Ломоносова. – СПб., 1865. – С. 46–53.].
Представляется, что немецкий ученый раздразнил гусей и что, кроме патриотизма, русские ученые в этом споре руководствовались еще крайним невежеством, ибо говорят, что Ломоносов защищал будто бы против учености Миллера сказки киевского Синопсиса (о славянстве варягов, о происхождении Москвы от Мосоха и т. п.); говорят даже, что Ломоносов упрекал Миллера, «зачем он пропустил лучший случай к похвале славянского народа и не сделал скифов славянами». Это уже прямая напраслина.
Вообще утверждают, что, за исключением Тредиаковского, русские академики, разбиравшие диссертацию Миллера, – Ломоносов, Крашенинников, Попов – осуждали его выводы «не с научной точки зрения, но во имя патриотизма и национальности» и что «на почве научного решения вопроса» остался только Тредиаковский.
Совершенно справедливо, что академики руководствовались чувством патриотизма, но нужно сказать, что они руководствовались не одним чувством, но и разумом патриотизма. Они осуждали ученый труд, не достойный этого имени, они патриотически защищали ученое достоинство Академии наук, которое позорно нарушалось недостойным науки ученым будто бы трудом. Они хорошо, в полной ясности, видели, что обнародование этой ученой диссертации послужило бы уничижением для Академии. Вот в чем заключался их основной невежественный патриотизм и горячий протест, оклеветанный доносом. Обвинение их в патриотизме и национализме даже с клеветой явилось в наше время по случаю общего гонения на русский патриотизм со стороны либерального направления нашей интеллигенции, господствовавшего в шестидесятых годах, тогда прославлялся только польский патриотизм!
Чтобы удостовериться в достоинствах ученой немецкой диссертации, надо потрудиться прочесть эту пресловутую диссертацию. Впечатление выносится такое, что это в полной мере сплошной бред с историческими и баснословными сведениями, расположенными без всякого сколько-нибудь логического порядка, расположенными, как свойственно именно бреду. Тот отдел сведений, против которого так горячо воевал Шлецер, именно бредни исландских старух, глупые исландские сказки, как он обзывал такие сведения, этот именно сказочный отдел и занял почти половину содержания диссертации, где Миллер серьезно рассказывает, не только критикуя одну сказку посредством другой, о королях финляндских, пермских, полоцких; о царях голмгардских и острогардских, но и о царях российских, приводя самые их имена. Вот они: Траннон, Радборг, Гервит, Бой, Олимар, Енев, Даг, Геррав, Флок, с которыми королями и царями (пользуемся словами самого Шлецера, который, по-видимому, читал диссертацию) «датские и шведские владетели вели кровопролитные войны, заключали договоры о бракосочетаниях еще до Р.Х. и в последующие столетия. Все это глупости, глупые выдумки», – повторяет Шлецер.
Вот почему и Тредиаковский вынужден был отметить, что речь исполнена неправости в разуме, а Шумахер, выслушав критиков, прямо назвал ее галиматьей. В наше время академик г. Куник скромно назвал ее препустой, Шлецер промолчал.
Само собой разумеется, что, если б все это прелюбопытнейшее дело было напечатано, оно объяснило бы вполне, кто в нем прав, кто виноват. Впрочем, благодаря изданным уже материалам[28 - Пекарский П. История Имперской Академии наук. – СПб., 1870–1873. – Т. I; Билярский П. Материалы для биографии Ломоносова. – СПб., 1865.] можно и теперь составить достаточно правильное понятие о ходе этого ученого спора, в основе своей и даже в подробностях нисколько не устаревшего и до настоящей минуты.
Надо сказать, что, заслужив похвалу потомства за научную почву, Тредиаковский подал мнение довольно уклончивое, говоря, что «сочинитель по своей системе с нарочитой вероятностью доказывает свое мнение…». «Когда я говорю, – писал он, – „с нарочитой вероятностью“, – то разумею, что автор доказывает токмо вероятно, а не достоверно». Затем он представляет, что материя слишком трудна, что и мнение автора, и те мнения, которые он отвергает, все утверждаются только на вероятности и никогда не получат себе математической достоверности. Вообще достоинство новой диссертации он равнял с достоинством предшествовавших ей писаний, не исключая и Синопсиса и прибавляя, впрочем, что система Миллера кажется вероятнее всех других, дотоле известных; что по этим причинам во всем авторском доказательстве он не видит ничего предосудительного для России. «Разве токмо сие одно может быть, как мне кажется, предосудительно, – говорил он, – что в России, о России, по-российски, перед россиянами, говорить будет чужестранный и научит их так, как будто они ничего того поныне не знали; но о сем рассуждать не мое дело».
Одобряя диссертацию к выпуску в свет, Тредиаковский, во всяком случае, предлагал ее исправить, иное отменить, иное умягчить, иное выцветить, причем ссылался, что об этих отменах, исправлениях, умягчениях довольно предлагали автору все разбиравшие диссертацию. Стало быть, и он с научной почвы показывал, что диссертация была неудобна во многих отношениях. Он только не обозначил явно, в чем заключалось это неудобство; но в заключение все-таки сказал, что отнюдь спорить не будет с мнением и рассуждением об этом предмете искуснейших и остроумнейших людей (своих товарищей) и что, напротив того, признает их мнение «как основательнейшее может быть лучшим». Как профессор красноречия, Тредиаковский составлял свою речь очень хитро, и поэтому вовсе не известно, куда прямо относится это может быть и что прямо хотел сказать красноречивый профессор. Ясно одно, что он был согласен со своими товарищами, знавшими предмет лучше и обладавшими большим искусством в споре. По всему видно, что его уклончивость происходила, собственно, от недостатка учености, от малого знакомства с источниками и литературой предмета, что вполне раскрывается в поданной им записке. И тем не менее это уклончивое мнение Тредиаковского заслужило похвалу, что будто бы «по своему беспристрастию оно представляет отрадное исключение» [29 - Билярский. Материалы для биографии Ломоносова. – СПб., 1865. – С. 758, 768.]. Такая похвала бросает сильную тень на его товарищей. Стало быть, мнения других русских ученых о диссертации Миллера были пристрастны, не отрадны по своему нравственному качеству? Однако тот же Тредиаковский в своем особом рассуждении о варягах-руссах, написанном гораздо позже, касаясь достоинства Миллеровой речи, пишет между прочим, что «напечатанная, она в дело не произведена: ибо освидетельствованная всеми членами академическими, нашлась, что как исполнена неправости в разуме, так и ни к чему годности в слоге».
И никто другой, как именно Тредиаковский, сводит этот ученый спор прямо на почву патриотических воззрений. В упомянутом своем рассуждении о варягах-руссах в самом начале он жалуется, что происхождение этих варягов приведено под немалое сомнение в наших мыслях, так что поныне (в 1757 г.) еще нет довольного удостоверения, из какого народа были сии варяги; что виной тому чужестранные писатели, которые, производя варягов от инородных нам племен, вводят нас в это сомнительное безызвестие о названии, роде и языке варягов.
Надо припомнить, однако, как встречены были немецкие мнения о скандинавстве Руси и вообще о начальной русской истории первыми русскими учеными, то есть первыми русскими людьми, которые наукой возвысились до степени академиков и могли независимо от немцев сами кое-что читать и понимать по этому вопросу.
После Байера о скандинавстве варягов заговорил академик и государственный императорский историограф Миллер, досточтимый ученый, который впоследствии оказал русской исторической науке многочисленные пользы, хотя на первых порах своей ученой деятельности претерпел немалое крушение, которое, быть может, послужило отрезвляющим поводом к более правильному пониманию основных задач его ученой изыскательности. В 1749 году по поручению Академии к торжественному собранию он написал речь, предметом которой избрал темный вопрос: «О происхождении народа и имени российского», где по Байеру доказывал, что варяги были скандинавы, то есть шведы, что имя русь взято у чухонцев (финнов), которые шведов называют «россалейна». В то самое время у нас существовали очень враждебные отношения к Швеции. Вопрос, таким образом, относительно своего скандинавского решения по естественной причине принимал некоторый политический оттенок, и сами же немецкие ученые (Шумахер) сознавали, что предмет рассуждения был скользкий. Но не предмет, а именно его решение по тогдашним обстоятельствам переносило науку в область политики и заставило самое начальство Академии отдать речь Миллера на рассмотрение всего ученого академического собрания с особым требованием, не отыщется ли в ней чего-либо предосудительного для России. К этому еще присоединялись личные вражды между академиками. Большинством голосов речь была осуждена «как предосудительная России».
«Уже напечатанная речь была истреблена по наущению Ломоносова», – пишет в своих записках Шлецер. В своем «Несторе» он к этому прибавляет: «Один человек (Ломоносов) донес Двору, что это мнение оскорбляет честь государства. Миллеру запретили говорить речь». «Ныне трудно поверить гонению, претерпенному автором за сию диссертацию, – пишет Карамзин. – Академики по указу судили ее: на всякую страницу делали возражение. История кончилась тем, что Миллер занемог от беспокойства, и диссертацию, уже напечатанную, запретили». – «Речь не была читана. Грустно подумать, что причиной тому был извет Ломоносова», – повторяет Надеждин[26 - Сборник Академии наук. – Т. XIII. – С. 48; Карамзин. История государства Российского (далее: И.Г.Р.), I, пр. 111; Надеждин. Об исторических трудах в России // Библиотека для чтения. – Т. XX.]. Такие недостойные, вопиющие обвинения с легкой руки Шлецера повторялись с разными видоизменениями до последнего времени.
Теперь достоверно открылось, что всему этому делу руководителем был секретарь, «советник» Академии Шумахер. Охраняя честь и достоинство Академии, то есть академической корпорации, он первый указал начальству на сомнительные достоинства Миллерова труда.
Несмотря на то, до сих пор это дело представляется в таком свете, будто русские академики из одного квасного и недостойного патриотизма, из одного «национального пристрастия и нетерпимости» напали на ученый труд ученейшего немца и постарались устранить с поля науки, между тем как этот труд будто бы являлся «одной из первых попыток ввести научные приемы при разработке русской истории и (ввести) историческую критику, без которой-де история не мыслима как наука» [27 - В новом академическом издании «Каспий» все это дело именуется «инквизиционным судом, наряженным по доносу (уже) Теплова для обсуждения препустой речи Миллера». При этом перед доносом Теплова ставятся два вопросительных знака, которые все-таки дают надлежащий намек на действие Теплова, между тем как из писем к Теплову Шумахера весьма достоверно и очевидно открывается, с какой стороны шел этот пресловутый донос, представляющий собственно весьма простое домашнее канцелярское и секретарское действие самого Шумахера, как охранителя интересов академической корпорации. См.: Каспий. – СПб., 1875. – С. 641, 689.Вот письма Шумахера к Теплову:«7 августа 1749 г. г. Миллер представил мне свою речь на латинском языке, чтобы переслать ее в Москву (где тогда находился президент Академии г. К. Разумовский). Вот она… Прошу вас, прочтите ее внимательно. Он излагает предмет с большой эрудицией, но, по моему мнению, с малым благоразумием, ибо, во имя Господа, зачем разрушать при помощи шведских и датских писателей мнение, столько стоившее сочинителям, работавшим для прославления нации? Я не говорю более. По крайней мере, прежде напечатания ее не забудьте, м. г., напомнить его сиятельству, чтобы он приказал прочесть эту речь in pleno (лат. в полном составе. – Примеч. ред.), потому что академики, так же как и профессора, принимают в том участие, почему я желал бы, чтобы там не упоминалось о советниках…»«10 августа. Г. президент приказал Миллеру четыре месяца тому назад приготовить речь для торжественного собрания, предоставив на его волю избрать какой угодно ему предмет. До сих пор он ее не кончил и выбрал предмет самый скользкий (scabreux), который не принесет чести академии, напротив, не преминет навлечь на нее упреки и породить ей неприятелей. Всему причиной тут гордость. Так как эта речь академическая, то автору ее очень хорошо известно, что ее необходимо прочитать в конференции и рассмотреть профессорам; но он также знает, что многие не одобряют его разглагольствий, и потому-то он так долго медлит со своей речью, чтобы не оставалось времени на рассмотрение ее. Пусть только его сиятельство прикажет прочитать ее в конференции и напечатать после рассмотрения ее там…»«17 августа. Так как времени очень мало, чтобы разжевывать заключающееся в ней содержание, то было бы хорошо, когда бы его сиятельство соблаговолил приказать Миллеру высказаться гадательно, чтобы не обижать никого. Поистине это самый верный и приятный способ, потому что тогда решение предоставляется публике, которая желает быть главной, а, несмотря на то, автор, если он искусен, силой своих доказательств нечувствительно увлечет на сторону своих воззрений. И самое главное в этом случае есть то, что президент не рискует ничего своим одобрением, а профессора могут быть тем только довольны…»«21 августа. Его сиятельство прекрасно поступил, передав диссертацию г. Миллера на суд гг. профессоров. Они уже работают над ней и сделают так, что все останутся тем довольны, как равно и г. Миллер. Если бы напечатать его речь в том виде, как она есть, то все профессора согласны, что это было бы уничижением для Академии…»«24 августа. Г. Миллер не хочет уступить, а другие профессора не хотят принять ни его мнения, ни его способа изложения…»«28 августа. Фишер сказывал мне, что г. Ломоносов пишет по-латыни несравненно лучше Миллера. Так как речь последнего была наполнена ошибками против грамматики и истории и выражениями грубыми и обидными, то это все откинули, насколько позволяли время и уступчивость г. Миллера… Я говорю вам, м. г., как перед Богом, что Миллер только тогда сказал мне о своей речи, когда представил ее в канцелярию для отсылки в Москву. Правда, что, прочитав ее, я ему сказал в лицо, что не думаю, чтобы его сиятельство одобрил когда-нибудь его речь в том виде, как она есть, и что было бы лучше изложить этот предмет с большей осторожностью, чтобы не обидеть никого…»По случаю рассмотрения речи, назначенное на 6 сентября торжественное собрание Академии было отложено, почему Шумахер писал:«6 сентября. Весь город в волнении от внезапной перемены касательно торжественного собрания и каждый занят отысканием причин тому. Некоторые даже предполагают, что собрание отменено по представлению комиссара Крекшина, которого мнения противны миллеровским относительно происхождения господ русских». Так думал и сам Миллер.«7 сентября. Вы угадали: нет ни одного профессора, который бы верил, что не злосчастная речь г. Миллера была причиной расстройства торжественного собрания. Гг. профессора Струбе, Ломоносов, Тредиаковский, Фишер и два адъюнкта Крашенинников и Попов думают, что в состоянии судить о предмете…»«11 сентября. Гг. профессора и адъюнкты трудятся над речью г. Миллера, и вы, м. г., увидите, что мнение каждого из них, поданное особливо, будет весьма различествовать от того, которое он подавал с товарищами, будучи в заседании. Гг. ученые, из опасения ли, из зависти ли, очень редко высказываются о том, о чем их спрашивают. Когда хочешь знать истину о предмете, надобно непременно говорить с каждым отдельно. Так я и сделал».«16 сентября. С самого начала диссертация г. Миллера не имела чести мне понравиться, но я не находил ее столь ошибочной, как описывают гг. профессора и адъюнкты… Любезный мой друг и собрат по невзгодам! Не найдете ли вы удобным предложить его сиятельству приказать лучше на этот раз выбрать предмет из физики по математическому классу и отложить речь г. Миллера до другого времени, потому что невозможно согласить мнения гг. профессоров с авторскими, да если бы и возможно было, то надобно было бы переводить снова…»Предложение Шумахера было принято, и к предстоящему собранию стал готовить речь профессор математики Рихман.«19 октября. Гг. профессора и адъюнкты теперь трудятся над диссертацией г. Миллера и в понедельник начнут битву. Я предвижу, что она будет очень жестока, так как ни тот, ни другие не захотят отступиться от своего мнения. Не знаю, помните ли вы еще, м. г., то, что я имел честь писать к вам о диссертации г. Миллера. Помню, что я утверждал, что она написана с большой ученостью, но с малым благоразумием. Это оправдывается. Г. Байер, который писал о том же предмете в академических комментариях, излагал свои мнения с большим благоразумием, потому что употреблял все возможное старание отыскать для русского народа благородное и блистательное происхождение (по Байеру, варяги-династия были люди дворянской фамилии из Скандинавии и Дании); тогда как г. Миллер, по уверению русских профессоров, старается только об унижении русского народа. И они правы. Если бы я был на месте автора, то дал бы совсем другой оборот своей речи (Шумахер чертит ловкую программу, как бы он, польстив народному самолюбию, все-таки провел бы свою мысль. – Примеч. авт.), но он (Миллер) хотел умничать. Habeat sibi (лат. „пусть себе владеет“, то есть „и на здоровье“. – Примеч. ред.) – дорого он заплатит за свое тщеславие!»«30 октября. Профессор Миллер теперь видит, что промахнулся со своей диссертацией, потому что один Попов задал ей шах и мат, указав на столько грубых ошибок, которых он решительно не мог оправдать… Теперь он сказывается больным и не хочет более ходить в конференцию. Место на страницах 18 и 19 диссертации Рихмана приносит более чести академии, чем вся галиматья г. Миллера, которой он хочет разрушить все, что другие созидали с таким трудом». См.: Пекарский П. Дополнительные известия для биографии Ломоносова. – СПб., 1865. – С. 46–53.].
Представляется, что немецкий ученый раздразнил гусей и что, кроме патриотизма, русские ученые в этом споре руководствовались еще крайним невежеством, ибо говорят, что Ломоносов защищал будто бы против учености Миллера сказки киевского Синопсиса (о славянстве варягов, о происхождении Москвы от Мосоха и т. п.); говорят даже, что Ломоносов упрекал Миллера, «зачем он пропустил лучший случай к похвале славянского народа и не сделал скифов славянами». Это уже прямая напраслина.
Вообще утверждают, что, за исключением Тредиаковского, русские академики, разбиравшие диссертацию Миллера, – Ломоносов, Крашенинников, Попов – осуждали его выводы «не с научной точки зрения, но во имя патриотизма и национальности» и что «на почве научного решения вопроса» остался только Тредиаковский.
Совершенно справедливо, что академики руководствовались чувством патриотизма, но нужно сказать, что они руководствовались не одним чувством, но и разумом патриотизма. Они осуждали ученый труд, не достойный этого имени, они патриотически защищали ученое достоинство Академии наук, которое позорно нарушалось недостойным науки ученым будто бы трудом. Они хорошо, в полной ясности, видели, что обнародование этой ученой диссертации послужило бы уничижением для Академии. Вот в чем заключался их основной невежественный патриотизм и горячий протест, оклеветанный доносом. Обвинение их в патриотизме и национализме даже с клеветой явилось в наше время по случаю общего гонения на русский патриотизм со стороны либерального направления нашей интеллигенции, господствовавшего в шестидесятых годах, тогда прославлялся только польский патриотизм!
Чтобы удостовериться в достоинствах ученой немецкой диссертации, надо потрудиться прочесть эту пресловутую диссертацию. Впечатление выносится такое, что это в полной мере сплошной бред с историческими и баснословными сведениями, расположенными без всякого сколько-нибудь логического порядка, расположенными, как свойственно именно бреду. Тот отдел сведений, против которого так горячо воевал Шлецер, именно бредни исландских старух, глупые исландские сказки, как он обзывал такие сведения, этот именно сказочный отдел и занял почти половину содержания диссертации, где Миллер серьезно рассказывает, не только критикуя одну сказку посредством другой, о королях финляндских, пермских, полоцких; о царях голмгардских и острогардских, но и о царях российских, приводя самые их имена. Вот они: Траннон, Радборг, Гервит, Бой, Олимар, Енев, Даг, Геррав, Флок, с которыми королями и царями (пользуемся словами самого Шлецера, который, по-видимому, читал диссертацию) «датские и шведские владетели вели кровопролитные войны, заключали договоры о бракосочетаниях еще до Р.Х. и в последующие столетия. Все это глупости, глупые выдумки», – повторяет Шлецер.
Вот почему и Тредиаковский вынужден был отметить, что речь исполнена неправости в разуме, а Шумахер, выслушав критиков, прямо назвал ее галиматьей. В наше время академик г. Куник скромно назвал ее препустой, Шлецер промолчал.
Само собой разумеется, что, если б все это прелюбопытнейшее дело было напечатано, оно объяснило бы вполне, кто в нем прав, кто виноват. Впрочем, благодаря изданным уже материалам[28 - Пекарский П. История Имперской Академии наук. – СПб., 1870–1873. – Т. I; Билярский П. Материалы для биографии Ломоносова. – СПб., 1865.] можно и теперь составить достаточно правильное понятие о ходе этого ученого спора, в основе своей и даже в подробностях нисколько не устаревшего и до настоящей минуты.
Надо сказать, что, заслужив похвалу потомства за научную почву, Тредиаковский подал мнение довольно уклончивое, говоря, что «сочинитель по своей системе с нарочитой вероятностью доказывает свое мнение…». «Когда я говорю, – писал он, – „с нарочитой вероятностью“, – то разумею, что автор доказывает токмо вероятно, а не достоверно». Затем он представляет, что материя слишком трудна, что и мнение автора, и те мнения, которые он отвергает, все утверждаются только на вероятности и никогда не получат себе математической достоверности. Вообще достоинство новой диссертации он равнял с достоинством предшествовавших ей писаний, не исключая и Синопсиса и прибавляя, впрочем, что система Миллера кажется вероятнее всех других, дотоле известных; что по этим причинам во всем авторском доказательстве он не видит ничего предосудительного для России. «Разве токмо сие одно может быть, как мне кажется, предосудительно, – говорил он, – что в России, о России, по-российски, перед россиянами, говорить будет чужестранный и научит их так, как будто они ничего того поныне не знали; но о сем рассуждать не мое дело».
Одобряя диссертацию к выпуску в свет, Тредиаковский, во всяком случае, предлагал ее исправить, иное отменить, иное умягчить, иное выцветить, причем ссылался, что об этих отменах, исправлениях, умягчениях довольно предлагали автору все разбиравшие диссертацию. Стало быть, и он с научной почвы показывал, что диссертация была неудобна во многих отношениях. Он только не обозначил явно, в чем заключалось это неудобство; но в заключение все-таки сказал, что отнюдь спорить не будет с мнением и рассуждением об этом предмете искуснейших и остроумнейших людей (своих товарищей) и что, напротив того, признает их мнение «как основательнейшее может быть лучшим». Как профессор красноречия, Тредиаковский составлял свою речь очень хитро, и поэтому вовсе не известно, куда прямо относится это может быть и что прямо хотел сказать красноречивый профессор. Ясно одно, что он был согласен со своими товарищами, знавшими предмет лучше и обладавшими большим искусством в споре. По всему видно, что его уклончивость происходила, собственно, от недостатка учености, от малого знакомства с источниками и литературой предмета, что вполне раскрывается в поданной им записке. И тем не менее это уклончивое мнение Тредиаковского заслужило похвалу, что будто бы «по своему беспристрастию оно представляет отрадное исключение» [29 - Билярский. Материалы для биографии Ломоносова. – СПб., 1865. – С. 758, 768.]. Такая похвала бросает сильную тень на его товарищей. Стало быть, мнения других русских ученых о диссертации Миллера были пристрастны, не отрадны по своему нравственному качеству? Однако тот же Тредиаковский в своем особом рассуждении о варягах-руссах, написанном гораздо позже, касаясь достоинства Миллеровой речи, пишет между прочим, что «напечатанная, она в дело не произведена: ибо освидетельствованная всеми членами академическими, нашлась, что как исполнена неправости в разуме, так и ни к чему годности в слоге».
И никто другой, как именно Тредиаковский, сводит этот ученый спор прямо на почву патриотических воззрений. В упомянутом своем рассуждении о варягах-руссах в самом начале он жалуется, что происхождение этих варягов приведено под немалое сомнение в наших мыслях, так что поныне (в 1757 г.) еще нет довольного удостоверения, из какого народа были сии варяги; что виной тому чужестранные писатели, которые, производя варягов от инородных нам племен, вводят нас в это сомнительное безызвестие о названии, роде и языке варягов.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: