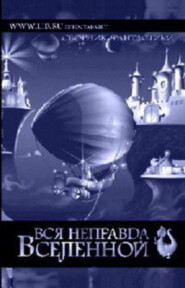По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
С ключом на шее
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Филипп плотно сжимает ляжки, чтобы не обмочить трусы, и тихо всхлипывает. Туман застилает глаза; мир сжимается до мутного пятна, в котором плавает Голодный Мальчик. Зеркало старое; от влаги амальгама в нижнем правом углу отстала от стекла, и из-за этого кажется, что рука Голодного Мальчика над локтем, как раз там, где остались шрамы от удара ножом, тронута темными пятнами разложения. Наверное, сегодня утром туман настолько загустел, что стало можно зацепиться за него, застыть в его гуще, как комочек в киселе. Наверное, Голодный Мальчик сумел прилепиться к туману, когда его набухшее вязкой влагой брюхо трамбовало озеро по пути от моря к городу.
– А хлеба с колбасой можешь вынести? – спрашивает Голодный Мальчик и быстро облизывает губы. – Хоть серого? Или с постным маслом хотя бы? Очень кушать хочется, невмоготу прям.
Филипп, покачнувшись, приваливается к двери. Грохот горячей воды, хлещущей из крана, становится оглушительным. Горло царапает задавленный визг. Колени подгибаются; он медленно сползает на пол, цепляясь ногтями за косяк. Туман забивается в горло тошнотворным сухим комком с привкусом меди, а живот кажется огромным и горячим, как дирижабль в тонкой, словно мыльный пузырь, оболочке. Филипп знает, что сейчас Голодный Мальчик вышагнет из зеркала. Его дыхание будет пахнуть тлеющей под раздавленным окурком хвоей, отравленной нефтью рыбой, мокрой псиной. Туман затопит мозг, а потом его завеса отдернется – и станет видно то, что за ней. То, что он не хочет видеть.
Опора из-под спины исчезает, и Филипп валится назад. Он успевает подставить ногу, упереться в противоположную стену узкого коридора. Сквозь грохот крови в ушах доносится слабый возглас бабушки. Филипп захлопывает дверь в ванную.
– Опять намываешься! – говорит бабушка. Чувство любви и облегчения, захлестнувшее Филиппа, так сильно, что от него горячо глазам. Легкие работают, как огромные мехи, и, кажется, их слышно на всю квартиру; он задерживает дыхание, но воздух вырывается из горла короткими, резкими толчками. – И не надо мне тут вздыхать! – сердито говорит бабушка. – Завтрак остывает.
– Сейчас, только в туалет схожу, – бормочет Филипп, глядя в пол. Живот по-прежнему кажется раздутым и беззащитным.
Стоя над унитазом, он настороженно прислушивается сквозь журчание струи к звукам, доносящимся из ванной. Вот скрипнула дверь. Он напрягается, но не слышит ничего, кроме бабушкиного ворчания. «Не мальчик, а наказание», – отчетливо выговаривает она. Филипп знает, что речь идет о нем, а не о том, другом мальчике. Вода в трубах вскрикивает диким голосом и замолкает, когда бабушка перекрывает кран.
– Когда ты научишься выключать воду, Филипп? – громко спрашивает она. – Хватит отсиживаться!
– Иду, – говорит он, не двигаясь с места. Надо дождаться, когда бабушка уйдет из коридора – иначе погонит мыть руки. А заходить в ванную он больше не собирается.
Несколько дней он считает, что решил проблему. Как и бывшие одноклассники Филиппа, Голодный Мальчик не лезет к нему при взрослых, а когда бабушка уходит, Филипп тут же запирает ванную на шпингалет. Заполонивший квартиру туман проник под череп, думать трудно, но, кажется, план работает. У Филиппа появляется привычка с силой елозить языком по зубам, чтобы стереть неприятно шершавый налет; в эти моменты бабушка отрывается от вязания и бросает на него взгляд, в котором сквозят недовольство и легкое беспокойство. Да и мама посматривает на него с более пристальным, чем обычно, вниманием. Филипп привык засыпать под тихое позвякивание спиц и постукивание печатной машинки – по вечерам бабушка обычно вяжет под торшером, а мама работает над своими очерками. Но теперь чаще слышно, как они сердито перешептываются о чем-то на кухне. Если напрячь слух, можно разобрать, о чем они спорят, но Филипп нарочно этого не делает. Он чувствует странную настороженность, пронизывающую туман мохнатыми, туго натянутыми ядовито-желтыми нитями, но в общем все вроде бы идет хорошо.
Так Филипп думает до того вечера, когда за ужином мама, едва усевшись за стол, начинает потягивать носом и недоуменно поднимать брови. Проглотив несколько кусочков жареной картошки, она откладывает вилку с ножом, прижимает к губам салфетку, глядя прямо перед собой. Мочки ее ушей розовеют.
Внимательно рассматривая журнальную репродукцию рериховских «Заморских гостей», висящую над обеденным столом, она говорит:
– От тебя дурно пахнет, Филипп. Когда ты в последний раз принимал душ?
Стены кухни, покачнувшись, раздвигаются, расплываются в невообразимой дали и выси. Филипп шевелит губами, но не произносит ни слова. Сквозь обморочную пелену слабо пробиваются мамины слова:
– Впрочем, не хочу даже знать. Немедленно после ужина отправляйся в ванную. И не забудь хорошенько почистить зубы. Мама, будь добра, проследи за ним. – Бабушка кивает, поджав губы. – Нет, лучше иди прямо сейчас, доешь позже. С тобой невозможно находиться в одном помещении.
Филипп по-прежнему окаменело сидит над тарелкой, не в силах даже дышать, и мама наконец поворачивает голову.
– Иди, Филипп. И забудем об этом неприятном эпизоде. Ну, живо! – Она легонько хлопает ладонью по столу. Подпрыгнувшая вилка звякает о тарелку, и Филипп вздрагивает всем телом.
– Не пойду, – беззвучно шепчет он.
– Что?
– Не пойду, – повторяет он. – Не хочу больше мыться.
– Что за нелепый каприз, – удивляется мама и беспомощно смотрит на бабушку.
– Ну, хватит, – говорит та и отставляет в сторону свой чай (по вечерам она обходится чашкой чая без сахара). Крепко берет Филиппа за локоть. Тянет его вверх, и Филипп цепляется ногами за ножки стола. – Да что ж это такое! – восклицает бабушка и тянет сильнее. Филипп, набычившись, изо всех сил вжимает зад в табуретку.
– Какое безобразие, – с отвращением говорит мама. – Да ты умрешь, что ли, если сходишь в душ?
Филипп задумывается.
– Наверное, да, – через секунду-другую отвечает он, и мама всплескивает руками от возмущения.
– Прекрати дерзить!
Вдвоем они сдергивают его с табуретки. Стол с мерзким скрипом сдвигается, и Филипп, подогнув колени, плюхается на пол. Его пытаются волочь – но он слишком тяжел для своих лет.
– Ты ведешь себя абсолютно неприлично, Филипп, – устало говорит бабушка, ослабив хватку. – Не вынуждай нас…
– Да отстаньте вы от меня! – визжит он, не дав ей договорить.
– Как ты смеешь? – вскрикивает мама, задохнувшись, и крепко хватает его за волосы. Филипп вякает от боли, пронзившей скальп, и приподнимается, чтобы ослабить натяжение, но мама уже выпустила его вихры и теперь брезгливо вытирает руку о полу халата.
Филипп снова тяжело оседает на пол, и его локоть выскальзывает из бабушкиной ладони. «Отстаньте! Отстаньте!» – вскрикивает он сквозь слезы. Мама и бабушка нависают над ним, как скалы, в ущелье тесной кухни. По неуловимому шелесту воздуха он чует, как они переглядываются над ним. Впитывает спиной исходящие от них волны недоумения, тревоги, страха. Плач оглушает его, отгораживает, запирает Филиппа в самом себе. Это длится долго, очень долго; они стоят над ним, и волны исходящего от них страха – все сильнее; они как будто совещаются над ним, и ясно, что одних взглядов им не хватит. Тень бабушкиного шиньона быстро проплывает по коврику, резко возвращается и проплывает снова, указывая на выход. Тень маминой головы отрицательно покачивается. Он рыдает все более самозабвенно, пока не понимает, что бабушкина тень победила, и он остался на кухне один.
Он почти перестал плакать, но вставать не спешит. Изредка всхлипывает, содрогаясь всем телом. Из комнаты доносятся тихие голоса, но о чем говорят – не разобрать за ровным гудением колонки. Он затихает, приподнимает голову, стараясь различить хотя бы отдельные слова, – но тут мама возвращается.
Он поспешно утыкается лицом в колени. Слышит шелест ткани, легкий щелчок суставов, когда мама приседает на корточки. На него накатывает сладкий аромат пудры и настоящих французских духов – сегодня мама при параде, она брала интервью у директора института. Прохладная рука легко прикасается к спине – и вспархивает, как редкая пугливая птица.
– Филипп, – ласково зовет мама. – Выслушай меня, Филипп. Мы с бабушкой считаем, что тебе надо в санаторий.
Филипп в ужасе мотает головой.
– У тебя совсем расшатались нервы, Филипп. Тебе нужно отдохнуть.
Мамин голос мягкий, как плеск торфяной воды о песчаный берег. Его голова все поворачивается, туда-обратно, туда и обратно, как заводная игрушка. Филипп уже не в силах остановить движение, тело не слушается его, и от страха он снова начинает плакать. Мама хватает его за затылок, чтобы остановить это бесконечное вращение, и он, сам того не ожидая, грубо отпихивает ее. Мама вскрикивает, испуганно и виновато, и этот тихий возглас ломает что-то внутри. Тело ощущается легким и пустым настолько, что вот-вот взлетит под потолок гелиевым шариком – и лопнет там, взорвется тысячью прозрачных ошметков.
Мама встает, и ее голос становится холодным и далеким, как будто долетает до Филиппа с гималайских вершин. Она говорит:
– В санатории тебе окажут…
Шарик лопается.
– Это не санаторий! – орет Филипп, и мама отшатывается. – Это психушка, вот что такое! Психушка! Дурка! – Каждое слово отбрасывает маму все дальше; она отклоняется, как тонкое деревце под зимним ветром, все сильнее, все неустойчивей. Еще несколько слов – и угол станет слишком большим, чтобы удержаться на ногах. – Желтый дом! – выкрикивает Филипп. – Желтый дурдом! – Запас синонимов иссякает, и несколько мгновений он давится словами. Под носом вспухает и лопается пузырь соплей. – Психушка! – выкрикивает он снова.
Тишина оглушает. Он открывает глаза, заглядывает маме в лицо и видит: угол наклона слишком велик. Мама остается на ногах, но это всего лишь видимость. На самом деле она уже падает. Ее глаза стали мутными, как «рыбьи шарики», россыпи которых они с Ольгой и Янкой находили в узких проходах между гаражами. Ее рот искажен от напряжения. Еще одно слово – и она закричит, и будет кричать, пока у нее не разорвется сердце – или пока она не сойдет с ума, и ее саму придется везти в санаторий.
По маминым глазам пробегает рябь; будто задергивается занавес, на котором нарисовано ее обычное лицо. За ним остается подсвеченная пурпуром тьма, в которую Филипп больше никогда не хочет заглядывать. Запах пудры и духов накатывает стремительно и неумолимо, как порыв штормового ветра, и мамина ладонь впечатывается в щеку Филиппа с таким треском, будто кто-то сломал сухую кедровую ветку.
…В конце концов он догадался накидывать на зеркало полотенце, но было уже слишком поздно. Что-то пробило в их семье колею, выскочить из которой они уже не смогли. Как Филипп ни держался, рано или поздно шарики в его голове с тихим мерным грохотом заезжали за ролики; он узнавал об этом по испуганным маминым взглядам, по поджатым бабушкиным губам. Угадывал с утра по чуть более громкому, чем обычно, звону мельхиоровой ложечки о фарфоровое блюдце, когда мама откладывала ее, размешав свой кофе. Вычислял по вкусу оладий, в которые бабушка положила меньше сахара. Иногда он даже догадывался, что именно делает или говорит не так, но не мог удержаться и снова отправлялся в (психушку!) санаторий.
Правда, до сих пор он и подумать не мог о том, чтобы сбежать.
5
Город, легко узнаваемый за наросшей за четверть века шелухой, скукожился, сжался во времени и пространстве. Единственная гостиница, которую сумела найти Яна, находилась на улице, которая когда-то казалась форпостом обитаемого мира, плохо заасфальтированным краем света. Теперь выяснилось, что от центра ее отделяют два квартала. Путь, казавшийся раньше почти бесконечным, съежился до считаных минут неспешным шагом. Масштаб изменился настолько, что от осознания разницы кружилась голова и слегка подташнивало. Четверть часа – и Яна оказалась на противоположной окраине.
Город О. оказался так мал, что от этого хотелось плакать. Он порос, как разноцветными поганками, магазинчиками и стихийными рынками, прикрыл изъеденное ветрами лицо щитом уродливых, как на подбор, вывесок. Он даже обзавелся собственной двуглавой церквушкой, внезапной, как кокошник на дежурном буровой платформы. С минуту Яна щурилась на белые стены и фальшивую позолоту куполов, вспоминая, что за здание стояло здесь – на главной улице, рядом с почтой, напротив кинотеатра «Нефтяник», превращенного теперь в торговый центр, – да так и не смогла. Но сама улица (по-прежнему имени Ленина) так и осталась пешеходной аллеей – лиственницы и каменная береза в нежном зеленом пуху, роскошная бархатная лента, наброшенная на пыльный изорванный плащ. И универсам назывался универсамом. И его витрины все так же украшали банки морской капусты, художественно разложенные на фоне картонных нефтяных вышек.
А вот школа, серый кирпич которой обшили пластиковыми панелями, теперь походила на дешевую китайскую игрушку. Яна невольно ускорила шаги, проходя мимо дыры в ограде, от которой сквозь кустарник уходила узкая тропинка. Вошла в ворота, срезая дорогу, пересекла стадион – пустой, если не считать двух юных собачниц, гонявших по гимнастическим бревнам овчарку и нестриженого шнауцера. Выбралась со школьной территории через пролом на углу.
Неприметная хрущевка через дом от школы, обитая с торца бутылочно-зеленым рифленым пластиком, не менее облезлая, чем раньше, – но и не более. Чахлый палисадник со следами отчаянной, но безнадежной заботы. Крайний подъезд. Крупная дворняга в неопрятных клочьях зимней шерсти распласталась у входа. Бетонный козырек надломился и потрескался; выросший в щели куст горькой полыни кренился над входом, размахивал узкими серебристыми листьями, как бледными изящными пальцами: не ходи сюда, тебе нельзя сюда ходить.