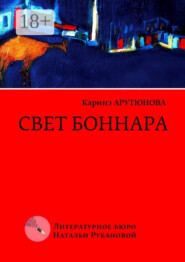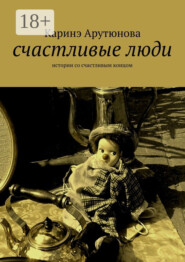По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дочери Евы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Автобус подъехал вовремя, в полдесятого утра, – об этом позаботился пунктуальный Штерн, – вот тут опять поднялась кутерьма, неразбериха, – Робсон уже стоял внизу в распахнутом кожаном пальто и красном шарфе, – таким его и запомнят, – с футляром, с запрокинутой головой червонного золота, уже тускнеющего, – Штерн, помоги, – Элка, бледная после бессонной ночи, одними глазами указывала на взъерошенного сонного мальчика, – тот стоял над лестничным пролётом, вцепившись в решетку, – а я никуда не поеду, – во внезапно образовавшейся тишине его голос прозвенел как натянутая струна, и только Штерн смог взять ситуацию под контроль, и, опустившись на корточки, улыбаться, гладить по спутанным волосам, один за другим разнимая онемевшие пальцы.
Эта страна не для тебя, детка
…Эта страна не для тебя, детка, некоторые устроились вполне неплохо, например, мальчик из акварелью писаного киевского дворика – немножко полноватый мальчик с оттопыренной нижней губой, хороший еврейский мальчик женится на однокласснице, конечно же, а вы думали, на шиксе с вот такими ногами из подмышек и прохладными даже в эту жару водянистыми глазами, вот этими водянистыми глазами она смотрит не видя, а что смотреть, что и кого можно видеть через прилавок, из девочки получилась способная жена хозяина продовольственной лавки и способная кассирша – как ловко она отбивает чечетку своими наманикюренными пальчиками – сыра двести, плитка шоколада, бутылка вина, глаз у нее профессионально безразличный, тем более муж тут неподалеку, рубит кости, что-что? вы не ослышались, кости, пятница – базарный день, и у нас всегда свежий завоз – парная телятина, индейка, свинина, – хороший еврейский мальчик ловко управляется с настоящей бараниной на плов, со свиными стейками, воловьими костями, с нежной филейной частью, кострецом, вырезкой, огузком, с куриными окорочками, гусиными шеями, ребрышками, у хорошего еврейского мальчика густо-волосатая грудь и руки по локоть в крови, кашерно, еще как кашерно, – смеется он, утирая пот со лба, – табличка с отпечатанным на принтере благословлением раввината над Фиминой головой, табличка, за которую плачено немало, и мезуза у входа, у самых ступенек, – тебе сколько? – у нашего мальчика не голова, а счетная машина, живую свинью он уже мысленно освобождает от кожи, головы, растопыренных копытец – отделяет мясо от костей, вырезает аккуратненькие, подковками, стейки, пухлые свиные сердечки – загляденье, подковки переводит в шекели, шекели в доллары, доллары в гривны – по Киеву он ходит королем, весь в белом, когда-то была у него мечта – жениться на самой длинноногой девочке класса и выучиться на зубного техника, вот и сбылось, ну, почти сбылось – экзамены он провалил, а девочка все равно бросила своего физика-ядерщика Головкицера и уехала с ним, пускай не врачом, а с тем, кто день-деньской крутится, продает и покупает, а потом рубит, колет и режет, фасует и тасует, а потом – все равно ведь он в белом, как врач, только вот шея у него раздалась, и бока, рубить кость – это вам не на скрипке пиликать, тут опора нужна, крепость всего организма, и любовь к этому самому, да, к мясу – жареному, тушеному, вареному, парному – без единой прожилочки, кострецу, лопатке, ошейку, ошметки алой плоти весело летят в подставленный поддон, в корзинку, в растопыренную пятерню обалдевшего покупателя – разве не за этим куском он ехал сюда, разве не за этим великолепием, – Ленок, полкило фарша, и полкило сарделек, и банку тунца, и дюжину куриных крылышек, горлышек, ножек, отдельно печеночку, пупочек, – разве не за этим?
Эта страна не для тебя, детка…
Сегодня Фима весь в белом – сегодня отчаливает пароход, а там, вдалеке, красавица Одесса, Одесса-мама, а за ней – склоны Днепра, и величественный город на них – золотой, вечный, прекрасный, неузнаваемый, тот самый, с парками, оврагами, монашками, куполами, – привет, Фима, как жизнь, Фима, – а вон и Головкицер, очкарик с усыпанной перхотью головой, усидчивый Головкицер, сутулый, тощий, брошенный Ленкой-юлой, с карикатурным своим носом и маленькими глазками – и что она в нем нашла, чем взял ее этот гигант, неужели недописанной диссертацией по ядерной физике?
– Где Головкицер? Куда он пропал, кто видел Головкицера? Нет кофейни, в которой часами сиживал в толпе таких же очкариков и восторженных девиц, – кофейни, расписанной совокупляющимися самками и самцами матерой кошачьей породы, нет кофейни, а коты все те же, только живые, вальяжные, центровые коты с Большой и Малой Житомирской, – под ноги иностранному туристу, с испитыми, из подворотен вырастающими сизыми личностями, щеголяющими азами инглиша и актерского, конечно же, мастерства, вполне безобидного, впрочем, а ты загляни на Андреевский, Фима, кажется, Головкицер мелькал там, – когда? – давно, года три тому, совсем обносился, отощал, – на что живет? – а неясно на что, и разве ж это жизнь, да вот еще и картинки малюет, штучный товар – вид с Владимирской горки, – неплохо, – цедит Фима и сует полтинник, Фима не жадный, ему не жаль полтинника, да и сотки не жаль – для человека в белом это смешные деньги, это вообще не деньги, между нами.
Но только что-то гложет его и спать не дает, – слышь, Ленок, спишь? – Ленок спит, разметав ноги от самых подмышек, вполне аккуратную в ее сорок грудь и прочую красоту, которая, конечно же, любима, желанна, но немного, как бы это сказать… привычна, что ли, – как рука или нога, – спишь? – и невдомек ей, что на поиски пропавшего Головкицера уйдет день, второй, третий – потный, в несвежем белом костюме, располневший Фима, страдающий одышкой уже года два, будет носиться по Андреевскому, совать нос в каждую подворотню, – и аж до самого Подола добежит.
– А по слухам, уехал твой Головкицер в благословенную страну, за океан, секретным физиком, – где-где, в Пентагоне, вот где, такие, как Головкицер, в Америке нужны, не то что здесь, – секретный физик в окружении знойных мулаток и не менее жгучих квартеронок и не вспомнит, кто такой этот круглолицый, сутки небритый, затурканный человечек в тесных белых брюках с расплывшимися пятнами пота, кто такой этот лысеющий, с одышкой, – ну да, предупреждали же, поменьше мяса, животных жиров, но что значит поменьше, – пашешь сутками, пятнадцатый год без продыху, а тут еще трое – накорми, обеспечь, отвези, – это головкицерам всяким хорошо, эти, очкастые, везде устроятся – если не в Америке, то в двухкомнатном клоповнике с престарелой мамашей, похожей на усатого фельдфебеля, в самом сердце Подола – здание под снос, вот-вот снесут, но почему-то еще не сносят, воды горячей нет, и не было никогда, колонка, отбитый край цинковой ванны, куча тряпок в прихожей – по слухам, спятила не только мамаша, но и сам Головкицер, говорят, он изобрел что-то или продолжает изобретать день-деньской, грязный, заросший пегой щетиной по самые глаза, ползает, чего-то чиркает в тетради, чертит, дымит как паровоз и глушит этот страшный свой плиточный чай – из старых запасов, черный, горький, из немытой кружки с перевязанной ручкой, – бедный счастливый Головкицер, ненужный никому, так и не женился, и детей не завел – какие дети, он и сам дитя, блаженное, нежно-голубоглазое, – задыхаясь от кошачьей вони, спотыкаясь о тазы, баки, ведра, банки, бутылки, хватаясь за липкие стены, переступая скрученные жгутом тряпки, доползет бледный Фима до Головкицеровского подвала, бункера, убежища, озираясь в поисках капли воды, хлебнет из грязной кружки Головкицеровской горечи.
– Сиди, – скажет Головкицер и выйдет на маленький захламленный балкон, и задымит в усыпанное звездами небо, – почему не уехал? – зачем, Фима? Куда? Разве мне здесь плохо? – и вправду, одним плечом втиснется Фима в проем балконной двери, зацепит край бездонного Головкицеровского счастья – с глухой кошкой, глухой мамашей, – да как ты живешь? как вы живете здесь – без страховки, без еды, без…
Без Ленки. Ведь это главное, так ведь? – усмехнется мудрый Головкицер, попыхивая в темноте, – так ведь моя Ленка со мной осталась, вот здесь, – и тощей ладонью коснется поросшей густым рыжим ворсом впалой груди, – груди отшельника, мудреца, аскета, – а твоя – с тобой, каждому по Ленке, – так ведь одна же, как это две – промычит грузный, отекший Фима с невнятной, необъяснимой тоской – по краешку звездного, чужого уже неба, по струящимся вдоль вечной реки улицам, забегающим вперед, тормозящим, опоясывающим, по выныривающим из подворотен лицам, – каким лицам, никого нет, Фима, все уже давно там, одни привидения, фикция, мираж, – засмеется хрипло Головкицер, выкашливая остатки прокуренных легких в покрытое испариной Фимино лицо.
…эта страна не для тебя, детка, – помнишь, Фимину лавку на углу, недалеко от шука[3 - Шук – рынок (ивр.).] – так вот, съездил Фима домой, красиво съездил – королем, весь в белом, сошел с трапа прямо на Крещатик, где девочки как на подбор, голоногие стрекозы, прошелся по Андреевскому, как и мечталось, спустился на Подол, отыскал, кого хотел, а, может, и не отыскал, вот тут не скажу, – а только нашли его в каком-то притоне, посреди тряпок, старых газет, бутылок, – несчастного маленького Фиму, который так чудно рубил мясо на стейки и выкраивал пухлые свиные сердечки, и прозрачные почки, и хрупкие, покрытые пленкой крылышки, не сразу нашли – бедная Ленка, вообрази, что ей пришлось пережить, страшная страна, одни бандиты, хулиганье, а тут счастливый Фима, у которого все так чудно сложилось, свой магазин, красавица-жена, полис – да, к счастью, все оформили как положено, – когда? во вторник, – а лавку, что лавку, недельки через две подходите, у нас свежий завоз, все, как вы любите, – стейки, сердечки, печеночки.
Письма
У нее есть дело, – связка писем, – это здорово, когда отъезжающему передают письма, как будто нет почты, – целая пачка писем, – передают на пороге, – да что же вы стоите, – не стойте на пороге, плохая примета, – входите, – или на перроне, под часами, в метро, – боже мой, – маленькая женщина в шляпке делает мечтательное лицо и покачивает головой, – Крещатик, – а что, там все так же? – да, – придется ей подробно все описать, – подземные переходы, в которых гуляет ветер, – запоздалых попутчиков, загулявших студентов, – вы уж потрудитесь, милочка, расскажите поподробней, – женщина хватает ее за руку, – а пруды? трамваи? – о, трамваи, – это особая история…
Она перебирает письма, всматривается тревожно, не торопится вскрывать. Разглаживает конверт, – скажите, а как он выглядит? – похудел? поправился?
Солнце палит вовсю, и они забиваются в угол под навесом, – в следующий раз берите воду, без воды нельзя, – женщина смотрит на нее с нескрываемой жалостью, – на такую вот, сошедшую буквально вчера с лесенки эскалатора, с трапа самолета, не понимающую, ступающую неумело по раскаленному, расплавленному, сжимающую в руках связку писем, – так вы не теряйтесь, – звоните непременно, – женщина раскрывает китайский бумажный зонт и машет рукой, – идите, идите! – смеется она и в ужасе озирается по сторонам, – на противоположной стороне улицы под таким же навесом на автобусной остановке сидит эфиоп. Он в белых одеждах и шляпе, сухой как мумия, сидит неподвижно и ждет, когда закатится солнце.
Летящий над пардесом[4 - Пардес (ивр.) – апельсиновый сад.]
Роясь в книжных завалах, отшвыривала толково состряпанные современные издания с именами-брендами на обложках.
Возликовала, выудив из груды книг потрепанную детскую книжицу, ветхую, с примитивными рисунками-каракулями.
Вспышка радостного узнавания.
Все эти бесхитростные смешные истории. С бесхитростными черно-белыми иллюстрациями.
Мы сидели под гудящим вентилятором, я и пятилетний сын, и читали, читали…
…У них была веселая бабушка в колпаке и такса Труба. У нас – тоже была такса. Совсем одичавшая в марокканском предместье, слоняющаяся по пустырю с высунутым от жары языком. Местные дети улюлюкали вслед и кричали, – накник, накникия[5 - Накник, накникия (ивр.) – сосиска.]! Степенные женщины брезгливо поджимали ноги. Для большинства соседей игривое четвероногое существо было нечистым и вообще вредным. Даже опасным.
– Что собака, – сетовал плотно сбитый человечек, жующий тахинную халву на лавочке возле дома, – вот вырастет, – она тебя будет кормить? Помогать? Собака не ребенок. Заводить надо детей. Тут точно не прогадаешь.
В суждениях тихого марокканца был тонкий расчет. Заводить надо того, кто… Понимаете? Чтоб было кому пресловутый стакан воды. Собака, даже самая умная, стакана не подаст.
Так вот, у нас была такса, вентилятор и книжка. С тревогой наблюдала я, как опадают, бледнеют веселые щечки моего сына, как из домашнего обласканного ребенка он превращается во взрослого, идущего с рюкзачком в нелюбимый «ган-хова», где толстая воспитательница прокуренным мужским голосом поет детские песенки на чужом языке, и дети вокруг совсем не такие, как там, в том дворе, который остался в другой жизни.
В этой жизни была дорога вдоль эвкалиптовой рощи, справа – караваны, – слева – пустырь с разбросанными там и сям ворованными запчастями. Хозяин наш «парси» (так называют выходцев из Ирана) промышлял богоугодным промыслом, не брезговал, кажется, ничем, чтобы прокормить шумную ораву детишек.
По вечерам во дворе звучала заунывная музыка мизрахи. Кипел густой бульон, приправленный специями. Волшебное варево, сдобренное халвой, кунжутом, финиками, липкими дешевыми сладостями из соседнего супермаркета.
Прохладная струя апельсинового сока. Собачьи своры там, за свалкой и лимонными деревьями. Мусор в глубокой ложбине за домом. Крысы и летучие мыши по ночам.
– Ты видела хульду[6 - Хульда (ивр.) – крыса.]? Вот такая хульда! – соседский сын, рыжий увалень в сдвинутой на затылок кипе, развел руки в стороны. Размер этой самой «хульды» был явно нешуточным. Хульда жила неподалеку, выходила гулять по ночам, скрипела острыми зубами, таскала объедки, возводила замок из пестрого пахучего хлама. Это была всем хульдам хульда. Королева хульдот. Весом в тонну, не меньше.
Могла запросто вышибить хлипкую дверь и устроить небольшой кровавый разнос. Воображение работало. По ночам я прижимала к себе ребенка, захлопывала окна, затягивала все трисы и пологи. Накрывалась с головой и стучала зубами. Крестовый поход хульдот казался неминуемым. На зубах перекатывались песчинки, за окном что-то скреблось и переваливалось на толстых лапах.
Проходя по шаткому мостику над ложбиной, я близоруко вглядывалась в копошащуюся, движущуюся массу.
– Видишь? – тяжело дыша, хозяйский сын хватал меня за руку. Видишь? – это самая большая в мире хульда.
Ее поджигали, травили, морили. Но безрезультатно. Хульда была непотопляема. Неистребима. Она была вечной.
Всех пересижу, всех переживу, – бормотала она, ныряя в гнилое крошево под ворохом тряпок, неутомимо загребая передними лапами, она рыла туннель с неистовством одержимой. Ее инстинкт самосохранения внушал уважение. Мерзкая тварь веселилась от души, поглядывая на нас острым блестящим глазком, похожим на булавочную головку.
Ненависть к проклятой хульде на какое-то время объединила всех, – марокканцев, парси, русских, эфиопов. Впрочем, нет, как раз эфиопы были настроены философски. Их близость к природе изумляла. Спокойные, будто выточенные из гладкого кофейного дерева лица не отражали рефлексий, присущих современному представителю рода человеческого.
Казалось, солнце давно иссушило и выжгло все суетно-недостойное их стройных спин, просторных одежд, проволочных волос. Только невозмутимость идущего по пустыне.
Хульда – это ты. А ты – это хульда. У нее ничуть не меньше прав на святую землю, на место под благословенным солнцем. Возможно, даже больше, чем у некоторых. Топающих ногами, возводящих неустойчивые баррикады из книг, детских и взрослых, из воспоминаний, из чужих букв и слов. Чужих. Чужих.
Маленькая эфиопская девочка, присев на корточки над ложбиной, протягивала смуглые ручки и лепетала что-то убийственно нежное на своем языке. Пустынном, птичьем, зверином. Она тянула руки и улыбалась. Кому? Да хульде! Ей она улыбалась и протягивала ладони.
Еще жил у нас бумажный змей. Как здорово запускался он на пустыре. Всегда было интересно, куда и когда он приземлится. Счастливый обладатель змея отпускал нитку, и веселое раскрашенное чудовище с прорезью огромного хохочущего рта взмывало туда, где летали крошечные серебристые лайнеры.
– Они летят домой? Правда же? – сияющими глазами провожал сын исчезающую точку и белую линию, рассекающую небо на «здесь» и «там», еще и уже, когда-нибудь, потом, никогда.
Маленькая книжка со смешными рисунками. Когда-нибудь все станет неважным, – все серьезное, взрослое, сложное.
Останется такса Труба, потрепанный бумажный змей и крохотная точка в небе.
Наш маленький мир, который покидаем однажды. Не оборачиваясь, но и не забывая, – «мама, папа, восемь детей и грузовик»[7 - «Мама, папа, восемь детей и грузовик» – детская книга норвежской писательницы Анне Вестли.].
Восхождение
Теперь-то у меня никаких сомнений, – женщина управляет вселенной.
Небольшого роста, в шляпке, более полная, чем худая, она подсаживается ко мне в автобусе и хватает за локоть.
Послушай, – произносит она, и я покорно захлопываю книгу, – алеф, – говорит она, – бет, и так далее.
Книгу я больше не раскрою, потому что эта женщина, она и есть книга, она более, чем книга, и мое преувеличенно заинтересованное выражение лица не обманет ее, – эту книгу нельзя захлопнуть и отложить на потом.
Ты совсем не слушаешь меня, – жалуется она. Автобус мягко подбрасывает на ходу, а за окном – вполне умиротворяющий пейзаж, – дорога в Иерусалим хороша всем, а прежде всего тем, что у меня нашлось время, наконец-то нашлась пара минут, чтобы выслушать ее до конца.
Эта пара минут переливается застывшими огнями на холмах, и сидящий на переднем сидении ортодоксальный иудей раскачивается и запевает, вначале вполголоса, а потом уже во всю ивановскую, – чувство неловкости уступает место чему-то похожему на экстаз, – вот видишь, – улыбается женщина-Вселенная, все неслучайно, ты, я, город, в который мы въезжаем с наступлением вечера, – вечер зимний, розовый, прозрачный, – зато через какой-нибудь час неизвестно с какой цепи сорвавшийся ветер вперемежку с пылью, песком, дождем закрутит шали, юбки, шляпы, случайных прохожих, и улицы опустеют.