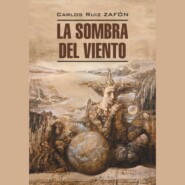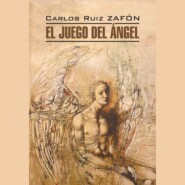По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Игра ангела
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы выбрали неудачный день, чтобы подшучивать надо мной, дон Педро.
– Нечего смотреть на меня с видом жертвенной овцы. Думаешь, Педро Видаль будет спокойно сидеть сложа руки, когда свора мелочных и завистливых бездарей вышвыривает тебя на улицу?
– Одно ваше слово, и главный редактор, несомненно, изменил бы решение.
– Знаю. Поэтому я сам навел его на мысль тебя уволить, – сказал Видаль.
Я почувствовал себя так, словно получил пощечину.
– Большое спасибо за содействие, – съязвил я.
– Я предложил ему уволить тебя потому, что приготовил кое-что получше.
– Нищету?
– Маловерный. Только вчера я говорил о тебе с двумя закадычными приятелями. Они недавно открыли на пару новое издательство и рыщут в поисках свежей крови, чтобы пить ее и наживаться на ней.
– Звучит заманчиво.
– Они уже имеют представление о «Тайнах Барселоны» и готовы выступить с предложением, которое сделает тебя человеком фактически и по существу.
– Вы серьезно?
– Разумеется, серьезно. Они хотят, чтобы ты написал для них серию романов в самой готической, кровавой и гротескной манере grand guignol, обставив «Тайны Барселоны» по всем статьям. Полагаю, это твой шанс. Я пообещал, что ты встретишься с ними и сможешь приступить к работе немедленно.
Я глубоко вздохнул. Видаль подмигнул и обнял меня.
7
Вот так, незадолго до дня своего двадцатилетия, я получил и принял предложение писать под псевдонимом Игнатиус Б. Самсон романы, цена которым была грош в базарный день. Контракт обязывал меня каждый месяц выдавать на-гора рукопись в двести машинописных страниц, напичканных всеми положенными атрибутами такого рода беллетристики: интригами, убийствами в высшем свете, бесчисленными ужасами – для создания мрачного фона, внебрачными любовными связями между обладателями гранитной челюсти и дамочками с нескромными желаниями, а также запутанными семейными сагами с подоплекой более грязной и мутной, чем акватория порта.
Серию, которую я нарек «Город проклятых», планировалось издавать ежемесячно отдельными томиками в картонном переплете с красочной картинкой на обложке. Взамен мне причиталось столько денег, сколько я никогда не надеялся заработать достойным путем. И мне не грозила цензура, помимо навязанной читательским интересом, который мне полагалось возбудить. По условиям договора я был вынужден писать, скрываясь в безвестности под чудным псевдонимом. Правда, в тот момент это казалось мне ничтожно малой ценой за возможность зарабатывать на жизнь тем, к чему я всегда стремился. Я поступился тщеславным удовольствием увидеть собственное имя, напечатанное крупными буквами на обложке моего произведения, но остался верен себе и своим принципам.
Моими издателями выступала парочка колоритных персонажей по имени Барридо и Эскобильяс. Мозгом предприятия был Барридо, маленький, пухлый человечек, вечно лучившийся масленой, загадочной улыбкой. Он происходил из среды колбасных промышленников. За всю жизнь Барридо, верно, прочел не больше трех книг, включая катехизис и телефонный справочник, однако обладал пресловутой наглостью, чтобы сочинять бухгалтерские книги, и вводил в заблуждение контрагентов шеренгами гладко причесанных цифр, взятых с потолка. По части фантазии он не уступал своим авторам, один другого изобретательнее, кого фирма, как и предсказывал Видаль, надувала, высасывала до капли и выбрасывала на улицу, как только ветер начинал дуть в другую сторону, а такой момент наступал обязательно, рано или поздно.
Эскобильяс играл роль второго плана. Высокий, сухощавый, он своим обликом внушал смутную угрозу. Он разбогател на торговле похоронными принадлежностями. Сколько бы он ни обливался одеколоном, смывая пятно позора, сквозь вязкий запах туалетной воды, казалось, по-прежнему тянет душком формалина, отчего волосы на затылке вставали дыбом. Эскобильяс осуществлял функции злого надсмотрщика с плеткой в руках и делал грязную работу, поскольку Барридо, более добродушный и менее крепкий, для этого не годился. Последней в их дружной компании menage-a-trois[13 - Букв.: хозяйство втроем (фр.). Обычно речь идет о любовных отношениях.] была секретарша правления Эрминия, следовавшая за начальством по пятам, как верная собака. Ее прозвали Отравой потому, что, несмотря на вид дохлого москита, она заслуживала доверия не больше, чем гремучая змея в брачный период.
Отбросив сантименты, я старался встречаться с шефами как можно меньше. Отношения у нас сложились чисто деловые, и ни одна из сторон не горела желанием изменить устоявшийся порядок вещей. Я был полон решимости использовать на полную катушку подвернувшийся шанс и трудился на совесть. Я стремился доказать Видалю и самому себе, что в поте лица заработал право на его помощь и доверие. Как только у меня появились свободные деньги, я решил распрощаться с пансионом доньи Кармен и поискать более удобное пристанище. Я уже давно положил глаз на солидный дом монументальной архитектуры под номером тридцать на улице Флассадерс, в нескольких шагах от бульвара Борн. Много лет я проходил мимо этого дома, когда направлялся в издательство или возвращался в пансион с работы. Особняк венчала массивная башня, выраставшая из фасада, украшенного резными каменными рельефами и горгульями. Год за годом он стоял запертый, на воротах висели цепи и замки, изъеденные ржавчиной. Несмотря на мрачный и претенциозный вид строения, а возможно, именно по этой причине, идея поселиться в доме с башней пробуждала во мне вихрь смелых фантазий. В иных обстоятельствах я охотно согласился бы, что такой дом намного превышает возможности моего скудного бюджета. Но он слишком долго оставался заброшенным и забытым, будто над ним тяготело проклятие, поэтому я тешил себя надеждой, что владельцы примут мое скромное предложение, раз других претендентов не нашлось.
Поспрашивав в округе, я выяснил, что в доме никто не живет уже очень давно и данная собственность находится в ведении агента по недвижимости по имени Висенс Клаве. Его контора располагалась на улице Комерсио напротив рынка. Клаве оказался сеньором старой закалки и предпочитал одеваться в стиле алькальдов и отцов отечества, скульптурные изображения которых красовались у входов в парк Сьюдадела. Стоило немного ослабить бдительность, как он пускался в рассуждения, забираясь в такие дебри риторики, что хоть святых выноси.
– Значит, вы писатель. А знаете, я мог бы порассказать вам столько историй, что вам хватило бы их на добрый десяток книг.
– Не сомневаюсь. Почему бы не начать с истории дома номер тридцать по улице Флассадерс?
Лицо Клаве обрело сходство с греческой маской.
– Дом с башней?
– Он самый.
– Поверьте, юноша, вы не захотите там жить.
– Почему же?
Клаве понизил голос и шепотом, словно боялся, что у стен есть уши, вынес вердикт похоронным тоном:
– Дом приносит несчастье. Я был в нем, когда мы приходили с нотариусом опечатывать его, и клянусь, в старой части кладбища Монтжуик намного веселее. С тех пор дом пустует. Это место хранит скверные воспоминания. Никто не хочет туда ехать.
– Те воспоминания не могут быть хуже моих, и, уверен, они помогут снизить цену, которую за него запрашивают.
– Бывают иногда счета, которых не оплатишь деньгами.
– Можно взглянуть на дом?
Впервые я переступил порог дома с башней мартовским утром в компании управляющего, его секретаря и финансового инспектора из банка, выступавшего на правах собственника. Похоже, особняк на много лет глубоко увяз в тенетах юридической тяжбы, пока наконец не был передан банку в качестве долга по кредитному обязательству последнего владельца. Если Клаве не лгал, лет двадцать ни одна живая душа не переступала порога этого дома.
8
Годы спустя, прочитав хроники открытия египетских пирамид с красочными рассказами британских ученых о том, как они углублялись во тьму тысячелетних погребений с запутанными лабиринтами и наложенными проклятиями, я поневоле вспомнил свое первое посещение дома с башней на улице Флассадерс. Секретарь заранее запасся масляным фонарем, поскольку электричество в дом провести никто не удосужился. Инспектор принес набор из пятнадцати ключей, чтобы отпереть больше дюжины замков, надежно скреплявших цепи. Когда открыли портал, из дома пахнуло склепом – тленом и сыростью. Инспектор закашлялся, а управляющий, сохранявший на лице выражение крайнего скепсиса и неодобрения, прижал к губам носовой платок.
– Вы первый, – пригласил он.
Вестибюль представлял собой нечто вроде внутреннего дворика на манер старинных дворцов в наших краях, вымощенный широкими плитами и с каменной парадной лестницей, ведущей к главному входу в жилище. Стеклянная крыша, сплошь заплеванная голубями и чайками, тускло поблескивала над головой.
– Крыс нет, – сообщил я, очутившись в здании.
– Кое-кому не помешала бы толика хорошего вкуса и здравого смысла, – пробормотал управляющий за моей спиной.
Мы взошли по ступеням на лестничную площадку жилого этажа, где банковскому инспектору потребовалось минут десять, чтобы подобрать ключ к замку. Механизм подался с жалобным стоном, прозвучавшим для меня как приветствие. Дверь отворилась, и за ней открылся бесконечно длинный коридор, где клочьями висела паутина, колыхавшаяся в темноте.
– Боже мой, – прошептал управляющий.
Никто не осмеливался сделать первый шаг, так что мне снова пришлось возглавить экспедицию. Секретарь, подняв фонарь повыше, озирался по сторонам с горестным видом.
Инспектор и управляющий таинственно переглянулись. Заметив, что я наблюдаю за ними, банкир безмятежно улыбнулся.
– Если избавиться от пыли и немного подновить – это будет настоящий замок, – сказал он.
– Замок Синей Бороды, – добавил управляющий.
– Давайте не терять оптимизма, – ринулся спасать положение инспектор. – В доме некоторое время никто не жил, и, естественно, в такой ситуации всегда по мелочи что-то неизбежно приходит в негодность.
Я едва обращал на них внимание. Я так долго предавался мечтам об этом доме, когда проходил мимо его ворот, что почти не замечал царившей в нем тягостной кладбищенской атмосферы. Я ступал по центральному коридору, заглядывая в комнаты и кладовые. Сохранившаяся старая мебель покоилась под толстым покровом пыли. На столе до сих пор лежала истлевшая скатерть, стоял сервиз и поднос со сгнившими фруктами и цветами. Рюмки и приборы по-прежнему находились на месте, как будто обитатели дома не закончили ужинать.
Шкафы ломились от ношеной одежды, выцветшего белья и обуви. Ящики были доверху набиты фотографиями, очками, ручками и часами, а кровати заправлены и застелены белыми покрывалами, отсвечивавшими в темноте. На тумбочке красного дерева громоздился монументальный граммофон, заряженный пластинкой, остановившейся, когда игла доиграла до конца дорожки. Я сдул тонкий слой пыли, и взору открылось название: «Лакримоза»[14 - Восьмая часть «Реквиема».] В.А. Моцарта.
– Музыка в доме, – заметил инспектор. – Чего еще остается пожелать? Вы заживете тут, как паша.
– Нечего смотреть на меня с видом жертвенной овцы. Думаешь, Педро Видаль будет спокойно сидеть сложа руки, когда свора мелочных и завистливых бездарей вышвыривает тебя на улицу?
– Одно ваше слово, и главный редактор, несомненно, изменил бы решение.
– Знаю. Поэтому я сам навел его на мысль тебя уволить, – сказал Видаль.
Я почувствовал себя так, словно получил пощечину.
– Большое спасибо за содействие, – съязвил я.
– Я предложил ему уволить тебя потому, что приготовил кое-что получше.
– Нищету?
– Маловерный. Только вчера я говорил о тебе с двумя закадычными приятелями. Они недавно открыли на пару новое издательство и рыщут в поисках свежей крови, чтобы пить ее и наживаться на ней.
– Звучит заманчиво.
– Они уже имеют представление о «Тайнах Барселоны» и готовы выступить с предложением, которое сделает тебя человеком фактически и по существу.
– Вы серьезно?
– Разумеется, серьезно. Они хотят, чтобы ты написал для них серию романов в самой готической, кровавой и гротескной манере grand guignol, обставив «Тайны Барселоны» по всем статьям. Полагаю, это твой шанс. Я пообещал, что ты встретишься с ними и сможешь приступить к работе немедленно.
Я глубоко вздохнул. Видаль подмигнул и обнял меня.
7
Вот так, незадолго до дня своего двадцатилетия, я получил и принял предложение писать под псевдонимом Игнатиус Б. Самсон романы, цена которым была грош в базарный день. Контракт обязывал меня каждый месяц выдавать на-гора рукопись в двести машинописных страниц, напичканных всеми положенными атрибутами такого рода беллетристики: интригами, убийствами в высшем свете, бесчисленными ужасами – для создания мрачного фона, внебрачными любовными связями между обладателями гранитной челюсти и дамочками с нескромными желаниями, а также запутанными семейными сагами с подоплекой более грязной и мутной, чем акватория порта.
Серию, которую я нарек «Город проклятых», планировалось издавать ежемесячно отдельными томиками в картонном переплете с красочной картинкой на обложке. Взамен мне причиталось столько денег, сколько я никогда не надеялся заработать достойным путем. И мне не грозила цензура, помимо навязанной читательским интересом, который мне полагалось возбудить. По условиям договора я был вынужден писать, скрываясь в безвестности под чудным псевдонимом. Правда, в тот момент это казалось мне ничтожно малой ценой за возможность зарабатывать на жизнь тем, к чему я всегда стремился. Я поступился тщеславным удовольствием увидеть собственное имя, напечатанное крупными буквами на обложке моего произведения, но остался верен себе и своим принципам.
Моими издателями выступала парочка колоритных персонажей по имени Барридо и Эскобильяс. Мозгом предприятия был Барридо, маленький, пухлый человечек, вечно лучившийся масленой, загадочной улыбкой. Он происходил из среды колбасных промышленников. За всю жизнь Барридо, верно, прочел не больше трех книг, включая катехизис и телефонный справочник, однако обладал пресловутой наглостью, чтобы сочинять бухгалтерские книги, и вводил в заблуждение контрагентов шеренгами гладко причесанных цифр, взятых с потолка. По части фантазии он не уступал своим авторам, один другого изобретательнее, кого фирма, как и предсказывал Видаль, надувала, высасывала до капли и выбрасывала на улицу, как только ветер начинал дуть в другую сторону, а такой момент наступал обязательно, рано или поздно.
Эскобильяс играл роль второго плана. Высокий, сухощавый, он своим обликом внушал смутную угрозу. Он разбогател на торговле похоронными принадлежностями. Сколько бы он ни обливался одеколоном, смывая пятно позора, сквозь вязкий запах туалетной воды, казалось, по-прежнему тянет душком формалина, отчего волосы на затылке вставали дыбом. Эскобильяс осуществлял функции злого надсмотрщика с плеткой в руках и делал грязную работу, поскольку Барридо, более добродушный и менее крепкий, для этого не годился. Последней в их дружной компании menage-a-trois[13 - Букв.: хозяйство втроем (фр.). Обычно речь идет о любовных отношениях.] была секретарша правления Эрминия, следовавшая за начальством по пятам, как верная собака. Ее прозвали Отравой потому, что, несмотря на вид дохлого москита, она заслуживала доверия не больше, чем гремучая змея в брачный период.
Отбросив сантименты, я старался встречаться с шефами как можно меньше. Отношения у нас сложились чисто деловые, и ни одна из сторон не горела желанием изменить устоявшийся порядок вещей. Я был полон решимости использовать на полную катушку подвернувшийся шанс и трудился на совесть. Я стремился доказать Видалю и самому себе, что в поте лица заработал право на его помощь и доверие. Как только у меня появились свободные деньги, я решил распрощаться с пансионом доньи Кармен и поискать более удобное пристанище. Я уже давно положил глаз на солидный дом монументальной архитектуры под номером тридцать на улице Флассадерс, в нескольких шагах от бульвара Борн. Много лет я проходил мимо этого дома, когда направлялся в издательство или возвращался в пансион с работы. Особняк венчала массивная башня, выраставшая из фасада, украшенного резными каменными рельефами и горгульями. Год за годом он стоял запертый, на воротах висели цепи и замки, изъеденные ржавчиной. Несмотря на мрачный и претенциозный вид строения, а возможно, именно по этой причине, идея поселиться в доме с башней пробуждала во мне вихрь смелых фантазий. В иных обстоятельствах я охотно согласился бы, что такой дом намного превышает возможности моего скудного бюджета. Но он слишком долго оставался заброшенным и забытым, будто над ним тяготело проклятие, поэтому я тешил себя надеждой, что владельцы примут мое скромное предложение, раз других претендентов не нашлось.
Поспрашивав в округе, я выяснил, что в доме никто не живет уже очень давно и данная собственность находится в ведении агента по недвижимости по имени Висенс Клаве. Его контора располагалась на улице Комерсио напротив рынка. Клаве оказался сеньором старой закалки и предпочитал одеваться в стиле алькальдов и отцов отечества, скульптурные изображения которых красовались у входов в парк Сьюдадела. Стоило немного ослабить бдительность, как он пускался в рассуждения, забираясь в такие дебри риторики, что хоть святых выноси.
– Значит, вы писатель. А знаете, я мог бы порассказать вам столько историй, что вам хватило бы их на добрый десяток книг.
– Не сомневаюсь. Почему бы не начать с истории дома номер тридцать по улице Флассадерс?
Лицо Клаве обрело сходство с греческой маской.
– Дом с башней?
– Он самый.
– Поверьте, юноша, вы не захотите там жить.
– Почему же?
Клаве понизил голос и шепотом, словно боялся, что у стен есть уши, вынес вердикт похоронным тоном:
– Дом приносит несчастье. Я был в нем, когда мы приходили с нотариусом опечатывать его, и клянусь, в старой части кладбища Монтжуик намного веселее. С тех пор дом пустует. Это место хранит скверные воспоминания. Никто не хочет туда ехать.
– Те воспоминания не могут быть хуже моих, и, уверен, они помогут снизить цену, которую за него запрашивают.
– Бывают иногда счета, которых не оплатишь деньгами.
– Можно взглянуть на дом?
Впервые я переступил порог дома с башней мартовским утром в компании управляющего, его секретаря и финансового инспектора из банка, выступавшего на правах собственника. Похоже, особняк на много лет глубоко увяз в тенетах юридической тяжбы, пока наконец не был передан банку в качестве долга по кредитному обязательству последнего владельца. Если Клаве не лгал, лет двадцать ни одна живая душа не переступала порога этого дома.
8
Годы спустя, прочитав хроники открытия египетских пирамид с красочными рассказами британских ученых о том, как они углублялись во тьму тысячелетних погребений с запутанными лабиринтами и наложенными проклятиями, я поневоле вспомнил свое первое посещение дома с башней на улице Флассадерс. Секретарь заранее запасся масляным фонарем, поскольку электричество в дом провести никто не удосужился. Инспектор принес набор из пятнадцати ключей, чтобы отпереть больше дюжины замков, надежно скреплявших цепи. Когда открыли портал, из дома пахнуло склепом – тленом и сыростью. Инспектор закашлялся, а управляющий, сохранявший на лице выражение крайнего скепсиса и неодобрения, прижал к губам носовой платок.
– Вы первый, – пригласил он.
Вестибюль представлял собой нечто вроде внутреннего дворика на манер старинных дворцов в наших краях, вымощенный широкими плитами и с каменной парадной лестницей, ведущей к главному входу в жилище. Стеклянная крыша, сплошь заплеванная голубями и чайками, тускло поблескивала над головой.
– Крыс нет, – сообщил я, очутившись в здании.
– Кое-кому не помешала бы толика хорошего вкуса и здравого смысла, – пробормотал управляющий за моей спиной.
Мы взошли по ступеням на лестничную площадку жилого этажа, где банковскому инспектору потребовалось минут десять, чтобы подобрать ключ к замку. Механизм подался с жалобным стоном, прозвучавшим для меня как приветствие. Дверь отворилась, и за ней открылся бесконечно длинный коридор, где клочьями висела паутина, колыхавшаяся в темноте.
– Боже мой, – прошептал управляющий.
Никто не осмеливался сделать первый шаг, так что мне снова пришлось возглавить экспедицию. Секретарь, подняв фонарь повыше, озирался по сторонам с горестным видом.
Инспектор и управляющий таинственно переглянулись. Заметив, что я наблюдаю за ними, банкир безмятежно улыбнулся.
– Если избавиться от пыли и немного подновить – это будет настоящий замок, – сказал он.
– Замок Синей Бороды, – добавил управляющий.
– Давайте не терять оптимизма, – ринулся спасать положение инспектор. – В доме некоторое время никто не жил, и, естественно, в такой ситуации всегда по мелочи что-то неизбежно приходит в негодность.
Я едва обращал на них внимание. Я так долго предавался мечтам об этом доме, когда проходил мимо его ворот, что почти не замечал царившей в нем тягостной кладбищенской атмосферы. Я ступал по центральному коридору, заглядывая в комнаты и кладовые. Сохранившаяся старая мебель покоилась под толстым покровом пыли. На столе до сих пор лежала истлевшая скатерть, стоял сервиз и поднос со сгнившими фруктами и цветами. Рюмки и приборы по-прежнему находились на месте, как будто обитатели дома не закончили ужинать.
Шкафы ломились от ношеной одежды, выцветшего белья и обуви. Ящики были доверху набиты фотографиями, очками, ручками и часами, а кровати заправлены и застелены белыми покрывалами, отсвечивавшими в темноте. На тумбочке красного дерева громоздился монументальный граммофон, заряженный пластинкой, остановившейся, когда игла доиграла до конца дорожки. Я сдул тонкий слой пыли, и взору открылось название: «Лакримоза»[14 - Восьмая часть «Реквиема».] В.А. Моцарта.
– Музыка в доме, – заметил инспектор. – Чего еще остается пожелать? Вы заживете тут, как паша.