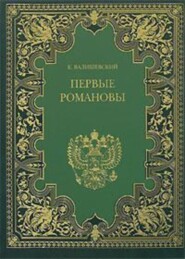По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Екатерина Великая. (Роман императрицы)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как бы ни были велики способности и заслуги канцлера, он в данном случае не выказал особой мудрости. Может быть, он лучше умел управлять большой империей, чем жизнью юной супружеской четы. Выбор воспитательницы, призванной заменить собою мадемуазель Кардель, был неудачен. Эта честь выпала на долю Марии Семеновны Чоглоковой; ей было всего двадцать четыре года; она была красива, добродетельна, любила мужа и имела детей, что, вероятно, вызвало доверие к ней императрицы и ее канцлера. Надлежало, чтобы великокняжеская чета имела всегда перед глазами назидательный пример добродетельных и любящих супругов. Увы, пример этот не привел к добру! Чоглокова была добродетельна, но неопытна. Екатерина ее невзлюбила, и она не сумела ни заставить уважать свой авторитет, ни установить действительный надзор за великой княгиней. Не было ничего легче, как ее провести, и Екатерина с приближёнными стала с увлечением предаваться запрещенным удовольствиям и отыскивать поводы к ним. Муж Марии Семеновны находился в Вене, когда его жена была назначена на свой пост. Вернувшись в Петербург, он без памяти влюбился в одну из фрейлин великой княгини, Марию Кошелеву. Будучи влюблен, он вдвойне ослеп и старался затуманить глаза и своей жене. Вследствие этого у нее на глазах граф Кирилл Разумовский, брат фаворита императрицы, имел возможность ухаживать за великой княгиней, если и не слишком смело, то во всяком случае весьма упорно. Несколько месяцев спустя дела пошли еще хуже. Муж воспитательницы, изменив фрейлине, запылал страстью к той, за которой его жена обязана была следить. Великий князь, со своей стороны, ухаживал за всеми фрейлинами и, таким образом, сближение, которое должна была произвести Чоглокова, не произошло, и исполнение ее задачи встретило еще большие затруднения.
Мысль обходиться с замужней женщиной, русской великой княгиней как с маленькой девочкой, была сама по себе несчастна, что и доказали последующие события. Екатерине было строго запрещено переписываться с кем бы то ни было, даже с отцом и матерью. Она должна была ограничиваться подписыванием писем, составляемых для нее в иностранной коллегии, т. е. в секретариате Бестужева. Это было равносильно приглашению Екатерины вести тайную переписку, столь часто практикуемую в то время. Она не преминула последовать этому приглашению. В это же самое время в Петербург приехал кавалер Мальтийского ордена итальянец Сакромозо.
В России давно уже не появлялось мальтийских кавалеров. Его очень чествовали; он был приглашен на все празднества и приемы, как официальные, так и интимные. Однажды, целуя руку великой княгини, он сунул ей записку: «От вашей матери», пробормотал он чуть слышно. Вместе с тем он сообщил ей, что музыкант великокняжеского оркестра, его соотечественник Ололио, возьмется передать ему ответ. Екатерина быстро спрятала записку в перчатку. Ей, вероятно, не впервые приходилось это делать. Сакромозо, впрочем, не обманул ее; письмо было действительно от ее матери. Написав ответ, она впервые стала прилежней следить за концертами своего мужа. Музыки она не любила. Указанное ей лицо, увидев, что она приближается, вполне естественно вытащило платок, оставив карман своего кафтана широко раскрытым. Екатерина бросила свою записку в этот импровизированный почтовый ящик, и с этой минуты переписка установилась и продолжалась во все время пребывания Сакромозо в Петербурге.
Вот каким образом случается, что сводятся к нулю и мудрость государственных мужей и мощь императрицы, когда они не считаются с другой мощью, именуемой молодостью, и с другой мудростью, предостерегающей от злоупотребления властью!
II
Приставив к Екатерине гувернантку, одновременно постарались отдалить от нее всех лиц, составлявших ее обычное общество и интимный кружок. Она приветствовала с радостью отъезд голштинца Брюммера, тем более что должность гофмаршала великокняжеского двора была замещена князем Репниным: «Это – любезнейший русский вельможа и умнейшая голова», писал о нем д’Альон. Сама Екатерина его очень ценила и питала к нему большое доверие. К несчастью, он недолго оставался на своем посту и был заменен хоть и влюбчивым; но нелюбезным Чоглоковым. Екатерина его терпеть не могла, и его любовь к ней не обезоружила ее. Вскоре поочередно исчезли все слуги великой княгини. Ее лишили даже любимой горничной-финляндки. Настала очередь и преданного Тимофея Евреинова, дававшего ей, однако, хорошие советы. Правда, он оказывал ей услуги, которые не всегда могли казаться таковыми в глазах других, например, он передал ей письмо от Андрея Чернышева, проезжавшего через Москву, по дороге в Сибирь. Сам Тимофей был сослан в Казань, где был полицмейстером, а затем дослужился до чина полковника. Так делались тогда дела в России!
Он был честен и, по-видимому, не обогатился на своем посту, так как через шестнадцать лет, вскоре после своего вступления на престол, Екатерина писала Олсуфьеву: «Я тебе поручаю выбрать место, или, одним словом сказать, хлеба дать Андрею Чернышеву, генерал-адъютанту бывшего императора, да отставному полковнику Тимофею Евреинову… Au nom de Dieu, dеfaites-moi de leur pri?re; ils ont souffert pour moi autre fois et je leur laisse battre le pavе, faute de savoir quoi en faire».
Бестужев направил свои удары, главным образом, против иностранцев, состоявших при особах великого князя или великой княгини или пользовавшихся их доверием. 29 апреля 1747 г. д’Альон возвещал об отбытии в Германию Бредаля, «обер-егермейстера великого князя, как герцога Голштинского», Дюлешинкера, его камергера, племянника Брюммера, Крамса, его камердинера, «состоявшего при его высочестве с малолетства», Штелина, «учителя истории», и Бастьена, его егеря. Из иностранцев оставались при дворе лишь фельдмаршал Миних, не имевший никакого влияния, и Лесток, «поддерживаемый своим ланцетом, некоторыми понятными опасениями и знанием бесчисленного множества анекдотов».
Вокруг Екатерины образовывалась все б?льшая пустота. В июне 1746 г. посланник Фридриха, друг и советник ее матери, Мардефельд, принужден был окончательно покинуть свой пост. Два года спустя на придворном балу она хотела подойти к Лестоку, но он уклонился от разговора с ней. «Не подходите ко мне», прошептал он: «Я в подозрении», и добавил еще раз: «Не подходите!» Он был красен, глаза его блуждали, Екатерине показалось, что он был пьян. Это происходило в пятницу 11 ноября 1748 г.
В предыдущую среду был арестован один француз, по фамилии Шапюро, родственник Лестока и капитан Ингерманландского полка. Два дня спустя подобная же участь постигла и самого Лестока. Его обвиняли в том, что он вошел в тайные и невыгодные для России сношения с французским, прусским и шведским дворами. Его пытали, но он мужественно выдержал самые ужасные мучения, никого не выдав. Он целый год провел в тюрьме и наконец был сослан в Углич.
Эта катастрофа, вероятно, окончательно выяснила Екатерине цену политических начинаний, которые ее мать хотела ей оставить в наследство, и хрупкость их опорных пунктов. Она также ускорила дело перерождения и ассимиляции, инстинктивно начатое невестой Петра путем изучения языка своего нового отечества и поручения себя духовному руководству архимандрита Тодорского. Один русский писатель усмотрел характерный симптом быстрых успехов, достигнутых великой княгиней в этом направлении, комментируя на свой лад отрывок из «Записок», относящийся к этому времени. Заместитель Тимофея Евреинова, некий Шкурин, вздумал заниматься доносами и сплетнями насчет Екатерины; тогда она вышла в гардеробную, где он обыкновенно стоял, и изо всей силы дала ему пощечину, прибавив, что велит его высечь. Оказывается, поступок этот был чисто-русский, и немецкой принцессе и в голову не пришел бы подобный образ действия. Само собой разумеется, мы оставляем ответственность за это толкование на его авторе (Бильбасов).
С другой стороны, постоянная перемена окружавших ее лиц имела ту хорошую сторону, что Екатерина знакомилась со многими людьми и имела возможность изучать большое количество образчиков человечества; вместе с тем она принуждена была менять и свой образ действий применительно к разнообразным характерам, положениям и комбинациям. Она обязана этому если не знанием людей, которым она никогда не обладала, то по крайней мере приобретением гибкости и упругости характера, обнаруженной ею впоследствии, и не менее изумительным искусством пользоваться людьми, – дурными ли, хорошими ли, – попадавшимися ей под руку (она никогда не умела их выбирать), и извлекать из них все, на что они были способны.
Впрочем, не все навязанные ей перемены в ее штате были ей неприятны или стеснительны для нее. Шкурин оказался впоследствии преданным и скромным слугой, а обменяв немку Крузе, свою камер-фрау, на русскую Прасковью Никитичну Владиславову, Екатерина сделала очень выгодное и ценное приобретение. Прасковья не была только преданной служанкой; она более, чем кто-либо, поработала над ознакомлением будущей царицы с жизнью, которую ей суждено было отныне вести, и внутренним интимным бытом народа, которым она призвана была управлять. Она знала эту жизнь, темную во многих отношениях и недоступную, как закрытая книга: знала и прошлое, включая подробности, оттененные анекдотами, и настоящее, включая сюда и малейшие городские и придворные сплетни. Она в каждой семье помнила четыре-пять поколений и безошибочно перечисляла все родство: отца, мать, дедов, двоюродных братьев и сестер по мужской и женской, восходящей и нисходящей линиям. Она была тонка и находчива. Мы увидим ее впоследствии за делом. После мадемуазель Кардель она более всех потрудилась над воспитанием Екатерины; первая подготовила в ней будущего друга философов, а вторая – «матушку государыню», столь близкую русским сердцам. Но, повторяем мы, настоящим воспитателем великой императрицы было одиночество, на которое обрекало ее равнодушие ее мужа и постепенное удаление всякой поддержки среди двора, создавшего ей на первых порах приятную жизнь и под блестящей внешностью не замедлившего оказывать ей всевозможные неприятности. Здесь уместно бросить беглый взгляд на эту среду, где протекли для нее долгие годы испытания, ожидания и борьбы, мужественно выдержанные ею до конца.
III
Россия восемнадцатого века – это здание, состоящее из одного только фасада. Это театральная декорация. Петр I поставил двор на европейскую ногу, и его преемники, в этом по крайней мере отношении, поддержали и развили его дело. Как в Петербурге, так и в Москве Елизавета была окружена всей пышностью и великолепием, свойственным и другим цивилизованным государствам. В ее дворцах мы видим целые анфилады зал, украшенных зеркалами, с мозаичными паркетами и потолками, разрисованными художниками. На ее празднествах толпятся придворные, одетые в шелка и бархат, разукрашенные золотом, осыпанные бриллиантами, дамы, одетые по последней моде, с напудренными волосами, нарумяненные и с пленительными мушками на уголках губ. У нее свита, штаты, камергеры, придворные дамы и лакеи – числом своим и роскошью мундиров не имеют себе равных в Европе. Согласно многим современным свидетелям, к которым некоторые русские писатели отнеслись слишком доверчиво, по нашему мнению, императорская резиденция в Петергофе превосходит великолепием Версаль. Чтобы составить себе суждение об этом, всмотримся попристальнее в эту кажущуюся роскошь.
Во-первых, у нее есть одна ненадежная, непрочная сторона, в значительной мере лишающая ее ценности. Дворец ее величества, как и дворцы ее подданных, почти все деревянные. Когда они горят, что случается довольно часто, гибнут и все богатства, собранные в них, – драгоценная мебель, художественные предметы. Их строили вновь всегда поспешно и небрежно, не думая о том, чтобы придать им большую прочность. На глазах Екатерины в три часа сгорает московский дворец, имевший три версты в окружности. Елизавета повелела, чтобы его выстроили вновь в шесть недель, и приказание ее было исполнено. Можно себе представить, какова была постройка. Двери не закрываются, из окон дует, печи дымят. Архиерейский дом, в котором жила Екатерина после пожара, загорался три раза во время ее пребывания.
Вместе с тем в этих роскошных с внешней стороны дворцах не было и следа комфорта и удобства. Всюду великолепные приемные покои, чудесные бальные и банкетные залы; а для жилья служили несколько узких комнат, лишенных света и воздуха. Половина Екатерины в летнем дворце в Петербурге выходила с одной стороны на Фонтанку, представлявшую тогда зловонную лужу, с другой – на маленький дворик. В Москве еще хуже. «Нас поместили, – пишет Екатерина, – в деревянном флигеле, выстроенном лишь осенью; вода текла со стен, и все помещение было страшно сыро. Этот флигель состоял из двух рядов комнат, по 5 или 6 больших комнат. Комнаты, выходившие на улицу, были отведены мне, остальные – великому князю. В моей уборной помещались мои девушки и горничные со своими прислужницами, так что их было семнадцать женщин в комнате с тремя большими окнами, но с одной только дверью, выходившей в мою спальню, чрез которую они и принуждены были проходить за всякого рода нуждами… Кроме того, столовая их помещалась в моей передней». В конце концов установился другой способ сообщения с внешним миром – посредством простой доски, прилаженной к окну и служившей лестницей. Как видите, до Версаля еще далеко!
Екатерине приходилось не раз сожалеть о своем скромном прежнем жилище, в соседстве с колокольней, в Штеттине, или вспоминать с восторгом замок своего дяди в Цербсте или бабушки в Гамбурге. То были грубые, но прочные и просторные каменные постройки, относившиеся еще к шестнадцатому веку. В отместку за неудобства, которые она претерпевала за кулисами декоративной пышности своего нового великолепного помещения, Екатерина написала следующие стихи, найденные впоследствии в ее бумагах:
Jean b?tit une maison
Qui n’a ni rime, ni raison:
L’hiver on у g?le tout roide,
L’еtе ne la rend pas froide,
Il у oublia l’escalier
Puis le b?tit en espalier…
Дворцы Елизаветы были скверно выстроены и не лучше меблированы. Происходило это вследствие того, что принадлежность меблировки к известному дому была тогда обычаем, неизвестным в России. Мебель была как бы принадлежностью лица и следовала за ним в его путешествиях. Это являлось как бы пережитком кочевой жизни восточных народов. Обивка, ковры, зеркала, кровати, столы, стулья, предметы роскоши и предметы необходимости переезжали вместе с двором из зимнего дворца в летний, оттуда в Петергоф и Москву. Конечно, много вещей ломалось и терялось в пути. Таким образом, получалось странное смешение роскоши и убожества. Ели на золотой посуде, поставленной на столе со сломанной ножкой. Среди chef d’oeuvre’ов французского и английского искусства не на чем было сидеть. В доме Чоглокова в Москве, где Екатерине пришлось жить некоторое время, не было вовсе мебели. Сама Елизавета нередко находилась в том же положении, но она ежедневно пила чай из чашки, привезенной по ее приказанию Румянцевым из Константинополя и стоившей 8 000 дукатов.
Этому материальному беспорядку, которым разрушалось величие внешней декорации, соответствовала в отношении нравственности какая-то внутренняя разнузданность, в которой, несмотря на внешнюю чрезвычайную пышность и утонченный этикет, поминутно утопало достоинство самого трона. Следующее происшествие, рассказанное нам Екатериной в своих «Записках», дает нам представление об этом. Незадолго до вмешательства Бестужева, послужившего поводом к вышеуказанным переменам в штате Екатерины и ее супруга, Петр совершил проступок, который, пожалуй, если и не вызвал, то по меньшей мере оправдал строгости канцлера и побудил императрицу их одобрить. Комната, где великий князь устроил свой театр марионеток, сообщалась дверью с одной из гостиных императрицы. Когда вся половина была отдана молодой чете, дверь эту заперли. Елизавета велела поставить в этой гостиной обеденный стол и иногда обедала в ней с приближёнными. Обеды эти были интимные, и сервировка стола была такова, что можно было обходиться без слуг. Однажды Петр, услышав веселые голоса и звон чокающихся рюмок, вздумал просверлить несколько дырочек в двери. Посмотрев в щелку, он увидел за столом императрицу, оберегермейстера Разумовского в халате и человек двенадцать придворных. Это зрелище показалось Петру чрезвычайно забавным и, не желая наслаждаться им в одиночестве, он позвал Екатерину. Она, однако ж, уклонилась от приглашения и даже дала почувствовать своему мужу всё неприличие и опасность подобного развлечения. Он не обратил на ее слова внимания и пригласил ее фрейлин, заставив их влезать на стулья и табуреты, чтобы лучше видеть, и устроив целый амфитеатр перед дверью, за которой выставлялось напоказ бесчестие его благодетельницы. Вскоре об этом узнали; императрица страшно разгневалась. Она даже напомнила своему племяннику, что у Петра I был тоже неблагодарный сын, а это было равносильно объявлению, что голова его держится на плечах не прочнее головы несчастного Алексея. Весь двор узнал об этом инциденте и, в свою очередь, над ним посмеялся.
Что касается Екатерины, она из него извлекла если не урок морали, чего, по-видимому, не случилось, то урок практической мудрости. Если и возле нее впоследствии сидели фавориты в халате, она все же устраивалась так, что их нельзя было видеть в дверную щелку. Она их или прятала, или заставляла толпу почитать их, создавая для них соответственные, величественные рамки. Она получила от Елизаветы и другие ценные указания. Она отказалась нарушить тайну интимных пиршеств, во время которых императрица позволяла себе забывать свое величие, но зато она присутствовала вскоре после отъезда принцессы Цербстской, 25 ноября, при парадном обеде, которым отмечался каждый год в день вступления на престол дочери Петра Великого. В большой зале Зимнего дворца стол был накрыт для 350 унтер-офицеров и солдат полка, который в тот день сопровождал Елизавету на завоевание своей короны. Императрица, в мундире капитана, в ботфортах, с саблей на боку и белым пером в шапке, сидела среди своих «камрадов». Придворные чины, высшие офицеры и иностранные министры сидели в соседней комнате. Екатерина, с ранних пор имея перед глазами это зрелище, задумывалась над ним и потому, вероятно, и сумела в нужный момент с такой грациозной развязностью надеть боевую одежду и, в свою очередь, возбудить энтузиазм и привлечь содействие этих же самых гренадер, также подготовленных уроками прошлого к смелым предприятиям.
Чаще всего великий князь был занят своими удовольствиями и любовными увлечениями, но иногда он вдруг возвращался к Екатерине. Эти минуты не были лучшими в ее жизни. В продолжение целой зимы он только и говорил с Екатериной, что о плане построить рядом со своей дачей дом, во всем похожий на капуцинский монастырь. Чтобы быть ему приятной, ей пришлось сто раз перерисовывать план этого здания. В этом не заключалось, однако, ее самое жестокое испытание. Присутствие великого князя влекло за собой и постоянное соседство своры собак, помещавшихся в супружеском апартаменте и распространявших невыносимый запах. Императрица запретила держать собак, и потому Петр вздумал спрятать их в общий альков, вследствие чего ночи Екатерины стали настоящим мучением. Днем лай и пронзительный визг нередко избиваемых собак не давал ей ни минуты покоя. Когда свора молчала, то Петр брал свою скрипку и ходил с ней из комнаты в комнату, стараясь производить возможно более шуму на своем инструменте. Он вообще любил шум. Кроме того, он все более и более обнаруживал пристрастие к спиртным напиткам. С 1753 г. он напивался «почти ежедневно». В этом отношении Елизавета не могла по понятным причинам накладывать на него узду. Изредка он возвращался к своим марионеткам. Однажды Екатерина нашла его стоящим в парадном мундире, в ботфортах и с обнаженной саблей посреди комнаты перед крысой, подвешенной под потолок. Оказалось, что несчастная крыса съела часового из крахмала, стоявшего перед картонной крепостью, и военный совет, собравшийся по всем правилам, приговорил ее к смертной казни.
Без сомнения, Екатерина, со своей могучей молодостью и страстностью своего темперамента, не выдержала бы испытаний подобной жизни, если бы она не приобрела некоторых привычек, дававших ей возможность иногда покидать печальный дом и нравственно отдыхать. Летом в Ораниенбауме она вставала с зарей и, быстро одевшись в мужской костюм, уезжала на охоту в сопровождении старого слуги. «Совсем близко на берегу моря была рыбачья лодка, мы шли через сад пешком, держа ружья на плече, и затем я, слуга, рыбак и собака садились в лодку, и я охотилась на уток, сидевших в камышах, окаймлявших море по обеим сторонам ораниенбаумского канала». Кроме охоты, другим поводом к частым отлучкам Екатерины служила верховая езда. Елизавета была сама страстной наездницей. Однако она сдерживала нарождавшееся увлечение Екатерины этим спортом. Великая княгиня в особенности любила ездить по-мужски на плоском седле с двумя стременами. Императрица усмотрела в этом одну из причин, препятствовавших ей иметь детей. Тогда Екатерина придумала снабдить свое седло особым приспособлением, позволявшим ей ездить по-дамски на глазах у Елизаветы и тотчас же переменить положение, как только лошадь уносила ее из виду. Юбка, разделенная надвое во всю длину, облегчала эту метаморфозу. Она брала уроки у наездника-немца, инструктора в кадетском корпусе, и за быстрые успехи получила почетные серебряные шпоры.
Она любила также танцы. Однажды вечером на одном из балов, которыми Елизавета, любившая движение и шум, увеселяла свой двор, великая княгиня поспорила с женой саксонского министра Арнгейма о том, кто скорее устанет. Она выиграла. Однако все эти развлечения не могли наполнить пустоту долгих зимних дней.
IV
Граф Гюлленборг посоветовал ей читать Плутарха и Монтескье. Графиня Головина утверждает в своих записках, оставшихся неизданными, что Лесток первый направил ее по этому пути, дав ей читать «Словарь» Бейля. Вряд ли Екатерина начала свое чтение со столь серьезного труда. Она сама, впрочем, сообщает нам некоторые подробности. «Первая моя книга была „Tiran le Blanc“. Она начала с романов, составлявших, несомненно, обычное чтение окружавших ее лиц. Она, по-видимому, прочла их много. Она не приводит их заглавий, но утверждает, что некоторые из них надоедали ей своими длиннотами. Можно из этого заключить, как то и сделал В. А. Бильбасов, что она прочла романы Лакальпренеда, мадемуазель де Скюдери, может быть, „Astrеe“ и, вероятно, „Les amours pastorales de Daphnis es Chloе“. Чувственные описания, которые она в них нашла, и непристойность, не превзойденная и в наши дни, не способствовали ли развитию некоторых склонностей, державших ее впоследствии в своей власти? Это весьма возможно. Она узнала, какие уроки добрая соседка Ликсония преподала Дафнису и как она сообщила их невинной Хлое; как „Дафнис сел возле нее и поцеловал ее и затем лег; Ликсония нашла, что он готов, приподняла его и скользнула под него…“ Перевод Амио сочинения Лонга имел тогда успех, о котором свидетельствует число его изданий, а отрывки вроде вышеприведенного не пугали даже самых „честных женщин“. Роман мадемуазель де Скюдери и явился протестом против слишком грубого реализма этой литературы, вплоть до того момента, когда реакция, вызванная им, в свою очередь пала под давлением скуки. Таким образом, история литературных эволюций является в общем ходе человеческих дел лишь вечным повторением одного и того же.
Хотя Екатерине и трудно было хвалиться сведениями, почерпнутыми ею из этого мутного источника, она все же извлекла из него огромную пользу – любовь к чтению вообще. Когда она оставила романы, наскучив ими или получив к ним отвращение, она уже научилась читать и принялась за другие книги. Она читала много и без разбора, что попадалось под руку. Так, она ознакомилась с «Письмами» мадам де Севинье; они привели ее в восторг, она их проглотила, по собственному ее выражению; без сомнения, она там и почерпнула свое пристрастие к эпистолярному стилю, как отчасти и фамильярный отрывистый слог ее писем, отнюдь, однако, не напоминающих прелестную грацию образца. Она стала лишь немецкой Севинье, влагавшей в самые смелые полеты своего пера немного той немецкой тяжеловесности, от которой Гейне и Берне освободились лишь благодаря особому смешению рас.
После «Писем» мадам де Севинье настал черед Вольтера. Семнадцать лет спустя Екатерина писала фернейскому патриарху: «Могу вас уверить, что с тех пор, как я располагаю своим временем, т. е. с 1746 г., я многим вам обязана. До того я читала лишь романы, но случайно ваши сочинения попали мне в руки; с тех пор я их беспрестанно читаю, и не хотела уже читать хуже написанных книг». Память изменила императрице, когда она писала эти строки, так как в своих «Записках» она упоминает лишь об одном сочинении Вольтера, прочитанном ею в то время; она не помнит даже его названия; к тому же она не особенно льстила великому философу, говоря о прочитанных ею столь же хорошо написанных книгах. Какие же были эти книги? «Жизнь Генриха Великого» Перефикса; «История Германской империи» Барра и главным образом – Екатерина не стесняясь сознается, что находила в этом чтении особое удовольствие, – сочинения Брантома. Вольтеру не приходилось особенно гордиться этим сравнением, тем более что влияние Перефикса соперничало с его влиянием в уме августейшей читательницы. Генрих IV всегда остался в представлении Екатерины несравненным героем, великим королем и образцовым государем. Она заказала его бюст Фальконе. Она неоднократно выражала, – между прочим и в своих письмах к фернейскому патриарху, – свое сожаление, что ей не суждено было встретить на земле столь достойного удивления монарха. Но она надеялась, однако, что на том свете будет наслаждаться его обществом. Она полагает, что во время революции политика великого Генриха спасла бы Францию и монархию. Этим поклонением объясняется и ее снисходительность к некоторым слабостям и отклонениям от прямого пути, свойственным любовнику красавицы Габриэли, и спокойная уверенность, с какой она не считала их несовместимыми с саном государя и общим направлением великого царствования. По всей вероятности, строгие размышления Перефикса на этот счет не обладали для нее достаточной убедительностью; она прочла ведь у него следующие слова: «Для величия его памяти следовало бы пожелать, чтобы у него не было другого недостатка, кроме страсти к игре. Но другой его слабостью, гораздо более прискорбной в христианском государе, являлось его пристрастие к красивым женщинам». Она удовлетворилась лишь данным ей примером, оставив в стороне моральную его сторону.
Чтение Брантома, так «заинтересовавшего» ее, как она наивно выражается, оказало, вероятно, более прямое и сильное влияние на ход ее мыслей. От нее не ускользнуло суждение о Монтгомери, «который самым беспечным и небрежным образом исполнял свои обязанности, так как очень любил вино, игру и женщин; но верхом, в седле, он становился храбрейшим и достойнейшим военачальником». Она отметила и характеристику Иоанны II Неаполитанской и странные комментарии автора: «Эта королева пользовалась славой женщины развращенной и непостоянной; говорили, что она была постоянно в кого-нибудь влюблена и наслаждалась страстью различным образом и с несколькими мужчинами. Однако в великой и красивой королеве этот порок наименее предосудительный… Красивые и знатные дамы должны походить на солнце, разливающее свет и теплоту на всех, так что каждый его чувствует. Так и эти знатные красавицы должны расточать свою красоту всем, кто к ним пламенеет. Те красивые и знатные дамы, которые могут удовлетворить многих людей, благосклонностью ли, словами ли, красивыми лицами, общением, всякими сладостными изъявлениями и доказательствами или, что еще предпочтительнее, восхитительными действиями, те не должны останавливаться на одной любви, но должны иметь их несколько: подобное непостоянство прекрасно и дозволено им».
После Брантома «Общая история Германии» Барра, вероятно, показалась Екатерине довольно неудобоваримой. Она пишет в «Записках», что читала по одному тому в неделю. Она как бы сознается, что у нее не хватило терпения прочесть все до конца, так как она упоминает лишь о девяти томах, тогда как их всего одиннадцать (в издании 1778 г.). Тем менее правдоподобно, что чтение этого сочинения повлияло неблагоприятно на ее отношение к Фридриху II и прусской политике. Фридрих II и его политика являются на сцену именно лишь в двух последних томах Барра. К тому же Екатерина познакомилась с этим сочинением в 1749 г., вскоре после его появления; поэтому, если ее предубеждение коренилось в нем, оно, очевидно, долгое время назревало и не проявлялось, так как еще в 1771 г., при первом разделе Польши, его нет и следа. Гораздо вероятнее, что Екатерина обязана была Барру своими первыми сведениями о германских делах, о силах и интересах, состоявших в борьбе между собой в великом германском организме, так как ее пребывание в Штеттине и Цербсте дало ей лишь самые смутные и несовершенные понятия о них.
Что касается «Словаря» Бейля, трудно себе представить, какое впечатление произвела подобная книга на читательницу двадцати двух – двадцати трех лет; первый том его она прочла в 1751 г. Екатерина уверяет, что она прочла целиком все четыре тома in folio, в которых этот предшественник энциклопедистов излагает результаты интеллектуальной культуры своей эпохи. Но, не зная ни греческого, ни латинского языка, она, по-видимому, должна была пропустить многочисленные цитаты, которые составляют у Бейля добрую половину его труда. Присоединим к ним еще четвертую часть, посвященную религиозным спорам и философским диссертациям, в которых она вряд ли что-нибудь поняла. Она, вероятно, лишь пробежала остальное, так как трудно читать словарь в обыкновенном смысле этого слова. Она, может быть, там и сям почерпнула кое-какие понятия, которыми и воспользовалась впоследствии. Доктрина о народовластии, смело выдвинутая автором, имела, по-видимому, некоторое, хотя и мимолетное, влияние на ее суждение и вдохновила ее первые законодательные попытки, хотя она и не сочла нужным «согласиться с Бейлем, что короли большие мошенники». Но все же ее поразила мысль, что «правила управления несовместимы с самой щепетильной честностью». К тому же она прониклась сознанием, что ни религиозная этика, ни ходячая мораль, ни катехизис Лютера, ни учение Симеона Тодорского, ни мудрые уроки m-lle Кардель и строгие принципы Христиана-Августа не выносили ни холодной критики такого философа, как Бейль, ни высокомерной оценки такого опытного человека, как Брантом, и что в глазах как того, так и другого не существовало ни вечных истин, ни абсолютных принципов.
Она была погружена в 1754 г. в подобные размышления, как давно ожидаемое событие прервало ее чтение, расстроило обычное, довольно монотонное течение ее жизни и внесло в эту жизнь значительные перемены. Она сделалась матерью.
V
Как случилось это событие? Вопрос этот кажется странным, однако ни один пункт во всей ее биографии не вызывал столько прений и споров. Не следует забывать, что прошло уже десять лет со свадьбы великой княгини, десять лет, в течение которых ее союз с Петром оставался бесплодным, а отношения супругов становились все холоднее. Письмо великого князя к жене, помещенное в приложении к русскому переводу «Записок» Екатерины и относящееся к 1746 г., довольно резко указывает на полный разрыв. Вот оно дословно:
«Madame,
Le vous prie de ne point vous incommodes cette nuis de dormir avec moi car il n’est plus le tems de me tromper, le let a еtе trop еtroit, apr?s deux semaines de sеparation de vous aujourd’hui apres mide.
Votre
tr?s infortunе
mari qui vous ne
daignez jamais de
ce nom.
Peter».
Между тем, несмотря на уединенную жизнь и строгий надзор за ней, Екатерина подвергалась многочисленным искушениям и преследованиям, в которых ее добродетель находилась в постоянной опасности, и сама она, согласно выражению русского историка, была как бы погружена в атмосферу любви.
Она сама сознаётся в своих «Записках», что, не будучи, собственно говоря, красивой, она все же умела нравиться; в этом заключалась ее «сила». Она звала любовь и распространяла ее вокруг себя. Мы видели, как муж ее наставницы сам пал жертвой этой эпидемии. Она избегла, надо сказать, первых опасностей. Она не похитила у Марии Семеновны ласки ее мужа, но в этом мало заслуги с ее стороны, так как она находила его некрасивым, глупым и неуклюжим как телом, так и умом. Она смертельно скучала летом 1749 г., часть которого ей пришлось провести в имении Чоглоковых, Раеве. Она почти каждый день виделась с молодым графом Кириллом Разумовским (см. выше), соседом по имению, приезжавшим обедать и ужинать и возвращавшимся затем в Покровское, делая таким образом каждый раз верст шестьдесят. Двадцать лет спустя Екатерине вздумалось спросить его, что побуждало его приезжать каждый день и делить скуку великокняжеского двора, когда он имел возможность собирать в собственном своем доме лучшее московское общество. «Любовь», ответил он, не колеблясь ни секунды. – «Любовь? Но кого же вы могли любить в Раеве?» – «Вас». – Она расхохоталась. Ей это и в голову не приходило.
Дело не всегда обстояло так. Чоглоков был некрасив, Разумовский слишком скромен. Явились другие, не обладавшие ни недостатками одного, ни достоинствами другого. Во-первых, при дворе в 1761 г. появился снова Захар Чернышев, удаленный в 1745 г. Он находит, что Екатерина похорошела, и не стесняясь высказывает ей это. Она с удовольствием слушает его. Во время бала, когда по моде того времени гости обмениваются «девизами» – узенькими бумажками, на которых были написаны стихи, более или менее удачные, смотря по находчивости кондитера, он посылает ей любовную записку, полную страстных признаний. Эта игра ей нравится, и она с удовольствием ее продолжает. Он хочет проникнуть в ее комнату, намереваясь переодеться для этого лакеем, но она указывает ему на опасность этого предприятия, и они возвращаются к переписке посредством девизов.
Часть этой переписки нам известна. Она была издана без обозначения автора в виде образчика слога знатной дамы восемнадцатого века, состоящей в переписке со своим любовником. Содержание ее не оставляет сомнений в том, что Захар Чернышев имел право на это звание.