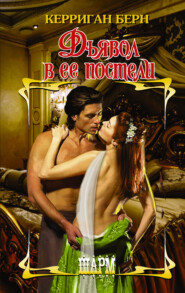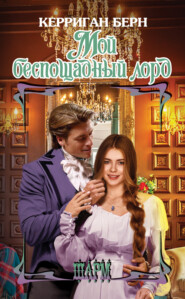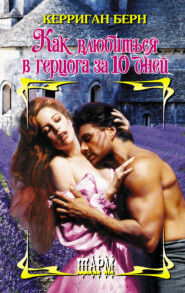По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Герцог с татуировкой дракона
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Стараясь не поддаваться панике, едва не вызванной страхом и болью при пробуждении, он лежал в полной темноте с повязкой на глазах. Он начал восстанавливать череду событий. Неистово с твердой решимостью восполнял в памяти горестную летопись произошедшего.
Что он знал: он человек, рожденный в скудельнице. Повитух, отправивших его в чуждый мир, звали огонь и мучение. Братьями ему были вороны, пировавшие мертвечиной.
Огонь был щелочью, химикатом, которым облили трупы, чтобы быстрее разложились.
Мучение и больше ничего.
Он страдал амнезией. Смысл слов для него ничего не значил. Бестелесные голоса постоянно повторяли это с возрастающим интересом.
Голова была настолько повреждена, что им пришлось полностью забинтовать ее, оставив только рот. Постоянные головные боли не давали ему покоя, и в особенности непрерывная пульсирующая боль в виске.
Он жил в Англии, но не помнил где.
У него было пять переломов: сломана левая лодыжка, два ребра, ключица, нос.
В глазу что-то лопнуло, от чего тот покраснел и вздулся.
Вчера он сел и смог приподнять раненое плечо немного выше, чем прежде, хотя оно все еще оставалось крепко прижатым к груди повязкой.
Ожоги перестали мокнуть, покрылись корками и струпьями и начали зарубцовываться.
И хотя он не видел, но слышал превосходно.
Все, что знал о себе и своем окружении.
Уже несколько недель он находится среди незнакомых людей.
Внимательный врач: доктор Холкомб. Человек с грубым голосом и осторожными руками, работающий резковато, но действенно. Холкомб собрал почти всю информацию о врачах, разбирающихся в медицине и нет.
Дряхлый старый дурак: сэр Роберт Везерсток, граф Саутборн. Обеспокоенный. Удрученный. Нерешительный. Постоянно возился с чем-то, что издавало глухие щелчки. Часы? Его шаги шаркали по полу, как по наждачной бумаге, а голос, когда он говорил шепотом, часто дрожал.
Человек, которого он хотел убить: Мортимер Везерсток. Тот, кто презрительно и колко разговаривал с другими. Каждое замечание было странным и мрачным. Каждый ответ – оскорблением. Его шаги гремели, словно удары молота, расшатывая и без того натянутые до боли нервы. В те редкие моменты, когда приходил Мортимер, резко поднималась температура. В сердце клокотала ненависть, а с губ срывалось яростное рычание.
И наконец… она.
Девушка, ради которой он просыпался.
Доктор Холкомб обращался к ней «мисс Везерсток». А двое других – «Утка». Если бы он мог с этим что-нибудь поделать… они бы ее больше так не называли.
Губы раздвигались в дыхании, освященном воспоминанием о ней, и он уронил на сердце не зафиксированную повязкой руку.
Он страстно желал узнать ее имя – сильнее, чем вспомнить свое.
Вспыхнувшее чувство беспокойным жаром разлилось по щекам.
Ее божественный голос вернул его из безвозвратно манящей пропасти, над которой он парил в лихорадке первые дни.
– Не уходите, – бормотала она. – Останьтесь здесь. Со мной.
Так он и поступил.
Он остался жить только потому, что она велела ему.
Каждый раз, когда смерть соблазняла его избавлением от страданий, он медлил в ожидании еще раз услышать наставления нежным тембром голоса. И так снова и снова. Легкое прикосновение пальцев к его ладони почему-то затмевало ужас пустоты его прошлого. И сразу становилось неважно, кто он. И что с ним станет.
Он с все большим нетерпением ждал ее визита.
Когда его приводили в порядок, промывали раны, накладывали швы или всего лишь меняли повязки, она была рядом. Прикасалась к нему. Еле слышно шептала слова утешения и хвалила за то, что выздоравливает. Она предвещала ему полное восстановление.
Иногда она ему пела высоким, нежным голосом… но лишенным артистизма и выразительности. Боже, это было просто ужасно. Но едва она заканчивала петь песню, он готов был заложить душу дьяволу, чтобы она спела еще.
К чему тогда небо и земля, если нет ее?
Ни к чему.
Она была его молитвой в ночи. Его песней во мраке. Его прошлым и настоящим. Его будущим.
И он еще ни разу ее не видел.
Не имело значения, как она выглядит. Его сердце уже решило биться ради нее.
Уши пронзил звук ее неровных приближающихся шагов, он пытался восстановить дыхание от сдавившего грудь волнения.
Он сглотнул, как только едва слышно открылась на хорошо смазанных петлях дверь. Ее шаги звучали в унисон с ударами его сердца. Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук.
Она что-то поставила на тумбочку справа от него, и по тому, как слегка прогнулся матрац, он понял, что она устроилась у его изголовья. Усилием воли он поборол желание повернуться к ней. Скрутиться калачиком вокруг нее. Он сжал лежащую на груди руку в кулак. Он задрожал, понимая, что она прикоснется к нему, но не знал когда.
Моменты между ее появлением и прикосновениями были самыми мучительными.
Он никогда не разговаривал с ней. Никогда не дотрагивался до нее. Не потому, что его израненное тело не позволяло это сделать, но потому, что он был абсолютно уверен, что его руки запачкают ее совершенство. Он представлял себе их грязными. Запятнанными таким позором, который невозможно смыть.
Всякий раз, как только он открывал рот что-то сказать, страх вызвать у нее отвращение и того, что она оставит его, ледяными пальцами сдавливал горло. Погружая в удушающее безмолвие.
Если он останется неподвижным… она не уйдет. Если он ничего не скажет, то не обидит ее.
Если он не будет дышать, то она, вероятно, прикоснется к нему.
К его бесконечному удивлению… это неизменно срабатывало.
Словно ответом на молитву, ее пальцы прикоснулись к его запястью, поднимая здоровую руку, чтобы обхватить ее двумя маленькими ладонями.
– Потрясающая новость, – пропела она восторженным шепотом, словно выдавала невероятную тайну. – Доктор Холкомб сегодня снимет с головы повязки.
Ее слова дошли до него только через минуту, и он открыл рот от удивления. Не только потому, что появился шанс снова видеть. Или дышать через нос. Но и потому, что она крепко прижала его руку к своей груди. Чуть ниже горла.
Завязки царапнули костяшки его пальцев, и ряд пуговичек вдавился в ладонь.
Она прижала щеку к его пальцам, и он почувствовал ее улыбку.
Что он знал: он человек, рожденный в скудельнице. Повитух, отправивших его в чуждый мир, звали огонь и мучение. Братьями ему были вороны, пировавшие мертвечиной.
Огонь был щелочью, химикатом, которым облили трупы, чтобы быстрее разложились.
Мучение и больше ничего.
Он страдал амнезией. Смысл слов для него ничего не значил. Бестелесные голоса постоянно повторяли это с возрастающим интересом.
Голова была настолько повреждена, что им пришлось полностью забинтовать ее, оставив только рот. Постоянные головные боли не давали ему покоя, и в особенности непрерывная пульсирующая боль в виске.
Он жил в Англии, но не помнил где.
У него было пять переломов: сломана левая лодыжка, два ребра, ключица, нос.
В глазу что-то лопнуло, от чего тот покраснел и вздулся.
Вчера он сел и смог приподнять раненое плечо немного выше, чем прежде, хотя оно все еще оставалось крепко прижатым к груди повязкой.
Ожоги перестали мокнуть, покрылись корками и струпьями и начали зарубцовываться.
И хотя он не видел, но слышал превосходно.
Все, что знал о себе и своем окружении.
Уже несколько недель он находится среди незнакомых людей.
Внимательный врач: доктор Холкомб. Человек с грубым голосом и осторожными руками, работающий резковато, но действенно. Холкомб собрал почти всю информацию о врачах, разбирающихся в медицине и нет.
Дряхлый старый дурак: сэр Роберт Везерсток, граф Саутборн. Обеспокоенный. Удрученный. Нерешительный. Постоянно возился с чем-то, что издавало глухие щелчки. Часы? Его шаги шаркали по полу, как по наждачной бумаге, а голос, когда он говорил шепотом, часто дрожал.
Человек, которого он хотел убить: Мортимер Везерсток. Тот, кто презрительно и колко разговаривал с другими. Каждое замечание было странным и мрачным. Каждый ответ – оскорблением. Его шаги гремели, словно удары молота, расшатывая и без того натянутые до боли нервы. В те редкие моменты, когда приходил Мортимер, резко поднималась температура. В сердце клокотала ненависть, а с губ срывалось яростное рычание.
И наконец… она.
Девушка, ради которой он просыпался.
Доктор Холкомб обращался к ней «мисс Везерсток». А двое других – «Утка». Если бы он мог с этим что-нибудь поделать… они бы ее больше так не называли.
Губы раздвигались в дыхании, освященном воспоминанием о ней, и он уронил на сердце не зафиксированную повязкой руку.
Он страстно желал узнать ее имя – сильнее, чем вспомнить свое.
Вспыхнувшее чувство беспокойным жаром разлилось по щекам.
Ее божественный голос вернул его из безвозвратно манящей пропасти, над которой он парил в лихорадке первые дни.
– Не уходите, – бормотала она. – Останьтесь здесь. Со мной.
Так он и поступил.
Он остался жить только потому, что она велела ему.
Каждый раз, когда смерть соблазняла его избавлением от страданий, он медлил в ожидании еще раз услышать наставления нежным тембром голоса. И так снова и снова. Легкое прикосновение пальцев к его ладони почему-то затмевало ужас пустоты его прошлого. И сразу становилось неважно, кто он. И что с ним станет.
Он с все большим нетерпением ждал ее визита.
Когда его приводили в порядок, промывали раны, накладывали швы или всего лишь меняли повязки, она была рядом. Прикасалась к нему. Еле слышно шептала слова утешения и хвалила за то, что выздоравливает. Она предвещала ему полное восстановление.
Иногда она ему пела высоким, нежным голосом… но лишенным артистизма и выразительности. Боже, это было просто ужасно. Но едва она заканчивала петь песню, он готов был заложить душу дьяволу, чтобы она спела еще.
К чему тогда небо и земля, если нет ее?
Ни к чему.
Она была его молитвой в ночи. Его песней во мраке. Его прошлым и настоящим. Его будущим.
И он еще ни разу ее не видел.
Не имело значения, как она выглядит. Его сердце уже решило биться ради нее.
Уши пронзил звук ее неровных приближающихся шагов, он пытался восстановить дыхание от сдавившего грудь волнения.
Он сглотнул, как только едва слышно открылась на хорошо смазанных петлях дверь. Ее шаги звучали в унисон с ударами его сердца. Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук.
Она что-то поставила на тумбочку справа от него, и по тому, как слегка прогнулся матрац, он понял, что она устроилась у его изголовья. Усилием воли он поборол желание повернуться к ней. Скрутиться калачиком вокруг нее. Он сжал лежащую на груди руку в кулак. Он задрожал, понимая, что она прикоснется к нему, но не знал когда.
Моменты между ее появлением и прикосновениями были самыми мучительными.
Он никогда не разговаривал с ней. Никогда не дотрагивался до нее. Не потому, что его израненное тело не позволяло это сделать, но потому, что он был абсолютно уверен, что его руки запачкают ее совершенство. Он представлял себе их грязными. Запятнанными таким позором, который невозможно смыть.
Всякий раз, как только он открывал рот что-то сказать, страх вызвать у нее отвращение и того, что она оставит его, ледяными пальцами сдавливал горло. Погружая в удушающее безмолвие.
Если он останется неподвижным… она не уйдет. Если он ничего не скажет, то не обидит ее.
Если он не будет дышать, то она, вероятно, прикоснется к нему.
К его бесконечному удивлению… это неизменно срабатывало.
Словно ответом на молитву, ее пальцы прикоснулись к его запястью, поднимая здоровую руку, чтобы обхватить ее двумя маленькими ладонями.
– Потрясающая новость, – пропела она восторженным шепотом, словно выдавала невероятную тайну. – Доктор Холкомб сегодня снимет с головы повязки.
Ее слова дошли до него только через минуту, и он открыл рот от удивления. Не только потому, что появился шанс снова видеть. Или дышать через нос. Но и потому, что она крепко прижала его руку к своей груди. Чуть ниже горла.
Завязки царапнули костяшки его пальцев, и ряд пуговичек вдавился в ладонь.
Она прижала щеку к его пальцам, и он почувствовал ее улыбку.