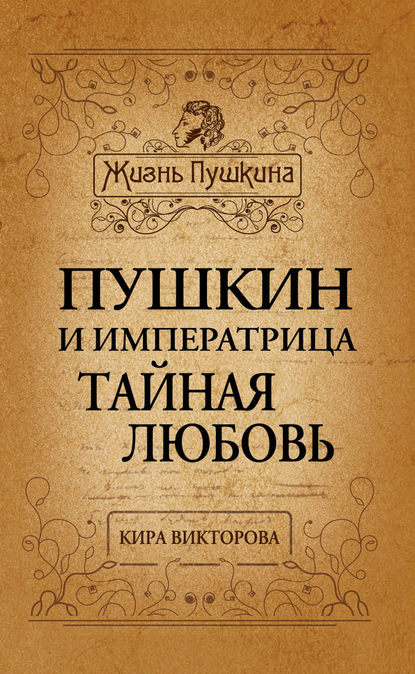По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пушкин и императрица. Тайная любовь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Посвящение «Полтавы»
«Ради Христа, не обижайте моих сирот-стишонков опечатками».
Погодину, 1828 г.
…Как он над бездною, без эха я пою
И тайные стихи обдумывать люблю.
«Гондольер», 1828 г.
1. «МАРИЯ»
Тебе … но голос музы темной
Коснется ль слуха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?…
Иль посвящение поэта
Как утаенная любовь
Перед тобой, как мимо света
Пройдет непризнанное вновь?
О, если примешь тайны звуки
Цевницы, преданной тебе,
Верь, Ангел, что во дни разлуки
В моей изменчивой судьбе
Твоя печальная пустыня,
Твой образ, звук твоих речей —
Одно сокровище, святыня
Одна печаль души моей.
(Автограф V, 324)
При анализе «Посвящения» (как и ряда других стихотворений) необходимо учитывать одно обстоятельство: Пушкин не только был убежден в бессмертии души, как все люди своего времени, но, подобно великим поэтам прошлого, верил в любовь за чертой земной жизни. О чем свидетельствуют лицейские стихи 1817 года:
Ты прав: душа бессмертна, слова нет,
Мои стихи пускай умрут.
Глас сердца, чувства неизменны
Наверно их переживут!
(I, 258)
И стихотворение 1822 года: «Вы нас уверили, поэты»:
Как ничего? что ж за могилой
Переживет еще меня?
Во мне бессмертна память милой,
Что без нее душа моя?
(2, 2, 757)
Вариант: «Он мой, он вечен образ милый», – дополняет сказанное.
Ср. вариант «Посвящения»: «Твой образ вечно мой».
Это неразрывное единство – бессмертие души и великой любви, отраженное в «заветной лире», звучит и в обращении к Мельпомене, то есть к Музе трагедии, о чем забывают биографы, толкуя «Памятник» 1836 г. в мажорном ключе: «Нет! Весь я не умру: Душа в заветной лире Мой прах переживет и тленья убежит…».
Прочтенное в этом свете, не заставляет ли посвящение думать, что обращено оно к образу женщины, которая уже умерла?
Текстологи «Полтавы» исповедуют другую точку зрения. П. Е. Щеголев, а вслед ему Л. П. Гроссман, Т. Г. Цявловская, И. В. Измайлов и др. отнесли «Посвящение», как и образ Марии, к пережившей поэта М. Раевской-Волконской. Но тогда встает проблема прототипа героя поэмы – «Мазепы», что ставит исследователей в затруднительное положение: либо идти далее и считать, что в образе коварного «змия» Мазепы, «не ведающего святыни», «презирающего свободу» – Пушкин видел С. Волконского, – либо признать гипотезу несостоятельной! Но стереотип оказался живуч и узаконен во всех изданиях сочинений, хотя сложившейся точке зрения противоречат рукописи Пушкина.
Рассмотрим некоторые из них, имеющие для данной темы принципиальное значение.
На полях рукописи II гл. «Онегина», возле стихов: «Не пел порочной он забавы. Не пел презрительных Цирцей…» – то есть биография поэта Ленского – мы видим так называемый «старческий» портрет Пушкина, профили Екатерины и Марии Раевских. У Марии – четкая презрительная гримаска. Таким образом, Мария Раевская ставится Пушкиным в ряд «презрительных Цирцей», что разрушает традиционный стереотип представления о роли сестер Раевских в жизни Пушкина.
О Екатерине Орловой, как прототипе Марины Мнишек, у которой «…была одна страсть – честолюбие…» – Пушкин сообщает Вяземскому в письме от 7 ноября 1825 г.: «…Марина собой преизрядна, вроде Катерины Орловой, не говори однако же этого никому»… В том же направлении ведут нашу мысль и другие закономерности Пушкинских рукописей.
В черновике начальные стихи «Посвящения» звучали эмоциональнее: «Воспоминаньем упоенный, верь, ангел, тебе…». Как известно, двойником этой поэтической формулы начинаются «Воспоминанья в Царском Селе» 1828–1829 гг.
Воспоминаньем упоенный…
Так я растроганной душой
Сады знакомые, под ваш покров священный
Вхожу с поникшею главой…
Таким образом, воспоминанье о вдохновительнице «Полтавы» связывается Пушкиным с воспоминаниями о Царском Селе, Лицее, Кюхельбекере и Пущине.
Этот вывод подтверждается положением рукописи: приведенные стихи записаны на одном листе (2371 л. 17 об.) со следующим текстом «Полтавы»: «Давно Украина волновалась. Друзья мятежной старины // Алкали бунта и войны…».
Более того, строфы биографии любви юного «козака» – к «Марии»:
Один с младенческих годов
Ее любил любовью страстной…
Он каждый день ее видал,
Об ней он пламенно мечтал,
В ее отсутствие страдал
И краткой встречей был утешен…
(5,212–213)
отсылают нас к биографической прозе лицейского Дневника 1815 г. от 29 ноября: «Я счастлив был! Нет, вчера я не был счастлив, поутру мучился ожиданием, вдруг… нечаянно встречаюсь с ней на лестнице – сладкая минута, но я не видел ее 18 часов – Ах! Какая мука! – но я был счастлив 5 минут», – то есть тем реалиям ожидания и встречи с Елизаветой Алексеевной, возвратившейся из Вены 28 ноября 1815 г. в Царское Село, о которых шла речь в I гл. «Хранитель тайных чувств» настоящей работы.
Этот параллелизм мыслей и образов, сокрытый от «непосвященных», отражен на многих страницах творческого наследия Пушкина. На одной из них – рисунке в рукописи «Полтавы», обойденном вниманием исследователей, – мы остановимся поподробнее.
На л. 22 под начальным стихом варианта портрета «Марии» «И в самом деле»… то есть «И подлинно: в Украине нет красавицы Марии равной // Как тополь киевских высот она стройна»[16 - «Мария Волконская, – по утверждению современников – В.И. Туманского – дурна собой. Но очень привлекательна остротою разговоров». Т. Цявловская, приводя эту цитату в «Прометее» (№ 1), обходит стихи «Полтавы», говорящие об исключительной красоте Марии. Далее, цитируя стихи Пушкина: «Ее движения то лебедя пустынных вод Напоминают плавный Ход…» – пишет: «пластичность, мягкость движений М. Раевской угадываются в портретах, нарисованных Пушкиным, где она изображена еще угловатым подростком». Как понимать такие «доказательства»?], – Пушкин рисует стройный тополь, деревья, наклоненные от бури, и наброски кружки, аналог которой находится в Русском музее в Ленинграде. Кружка выполнена по заказу Елизаветы Алексеевны в 1812 г. Как уже говорилось, в фарфоровом медальоне ее монограмма «Е» и надпись: «Я руская и с рускими погибну».
Это сближение трагических судеб «революционных голов» России: И. Пущина, В. Кюхельбекера, К. Рылеева и других декабристов, так или иначе связанных с Лицеем, Елизаветой Алексеевной и Пушкиным, продолжено в стихотворении 1829 г. «На холмах Грузии», где воспоминания о тех, которые далеко, «иных уж в мире нет» – соединено с утверждением первого, девственного чувства к «Деве» Царского Села: «Я твой по-прежнему… Тебя люблю я вновь. Как жертвенный огонь чиста моя любовь И нежность девственных мечтаний…» (то есть той элегии скорби, которую М. Волконская в письме к В. Вяземской нашла «французским мадригалом», «любовной болтовней»).
Как известно, М. Волконская в своих воспоминаниях о совместном путешествии с Пушкиным по Кавказу отнесла строки «Тавриды» и финала I главы. «Онегина»: «Я помню море пред грозою. Как я завидовал волнам. Бегущим бурною чредою С любовью лечь к ее ногам», – к своей шалости 15-летней девочки, бегающей за волной по песку безоблачного Азовского побережья у Таганрога». Мемуаристку, не видевшую рукописей поэта, можно извинить. Но исследователей «Тавриды» не заинтересовал тот факт, что под стихами воспоминаний о «милом следе» Пушкин оставляет следующие даты: 1811 г. (то есть год открытия Лицея), 1812,1813,1815,1816 и т. д. до 1831 года, – года окончания «Онегина». Число «14 апреля» также не совпадает со временем совместного путешествия с семьей Раевских, так как Пушкин выехал в ссылку 9 мая 1820 г.
В связи с датами «Тавриды» уместно будет вспомнить элегические следы «Милой» 1816 г. в Царском Селе:
…к ручью пришел, мечтами привлеченный.
Не трепетал в нем образ незабвенный
«Ради Христа, не обижайте моих сирот-стишонков опечатками».
Погодину, 1828 г.
…Как он над бездною, без эха я пою
И тайные стихи обдумывать люблю.
«Гондольер», 1828 г.
1. «МАРИЯ»
Тебе … но голос музы темной
Коснется ль слуха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?…
Иль посвящение поэта
Как утаенная любовь
Перед тобой, как мимо света
Пройдет непризнанное вновь?
О, если примешь тайны звуки
Цевницы, преданной тебе,
Верь, Ангел, что во дни разлуки
В моей изменчивой судьбе
Твоя печальная пустыня,
Твой образ, звук твоих речей —
Одно сокровище, святыня
Одна печаль души моей.
(Автограф V, 324)
При анализе «Посвящения» (как и ряда других стихотворений) необходимо учитывать одно обстоятельство: Пушкин не только был убежден в бессмертии души, как все люди своего времени, но, подобно великим поэтам прошлого, верил в любовь за чертой земной жизни. О чем свидетельствуют лицейские стихи 1817 года:
Ты прав: душа бессмертна, слова нет,
Мои стихи пускай умрут.
Глас сердца, чувства неизменны
Наверно их переживут!
(I, 258)
И стихотворение 1822 года: «Вы нас уверили, поэты»:
Как ничего? что ж за могилой
Переживет еще меня?
Во мне бессмертна память милой,
Что без нее душа моя?
(2, 2, 757)
Вариант: «Он мой, он вечен образ милый», – дополняет сказанное.
Ср. вариант «Посвящения»: «Твой образ вечно мой».
Это неразрывное единство – бессмертие души и великой любви, отраженное в «заветной лире», звучит и в обращении к Мельпомене, то есть к Музе трагедии, о чем забывают биографы, толкуя «Памятник» 1836 г. в мажорном ключе: «Нет! Весь я не умру: Душа в заветной лире Мой прах переживет и тленья убежит…».
Прочтенное в этом свете, не заставляет ли посвящение думать, что обращено оно к образу женщины, которая уже умерла?
Текстологи «Полтавы» исповедуют другую точку зрения. П. Е. Щеголев, а вслед ему Л. П. Гроссман, Т. Г. Цявловская, И. В. Измайлов и др. отнесли «Посвящение», как и образ Марии, к пережившей поэта М. Раевской-Волконской. Но тогда встает проблема прототипа героя поэмы – «Мазепы», что ставит исследователей в затруднительное положение: либо идти далее и считать, что в образе коварного «змия» Мазепы, «не ведающего святыни», «презирающего свободу» – Пушкин видел С. Волконского, – либо признать гипотезу несостоятельной! Но стереотип оказался живуч и узаконен во всех изданиях сочинений, хотя сложившейся точке зрения противоречат рукописи Пушкина.
Рассмотрим некоторые из них, имеющие для данной темы принципиальное значение.
На полях рукописи II гл. «Онегина», возле стихов: «Не пел порочной он забавы. Не пел презрительных Цирцей…» – то есть биография поэта Ленского – мы видим так называемый «старческий» портрет Пушкина, профили Екатерины и Марии Раевских. У Марии – четкая презрительная гримаска. Таким образом, Мария Раевская ставится Пушкиным в ряд «презрительных Цирцей», что разрушает традиционный стереотип представления о роли сестер Раевских в жизни Пушкина.
О Екатерине Орловой, как прототипе Марины Мнишек, у которой «…была одна страсть – честолюбие…» – Пушкин сообщает Вяземскому в письме от 7 ноября 1825 г.: «…Марина собой преизрядна, вроде Катерины Орловой, не говори однако же этого никому»… В том же направлении ведут нашу мысль и другие закономерности Пушкинских рукописей.
В черновике начальные стихи «Посвящения» звучали эмоциональнее: «Воспоминаньем упоенный, верь, ангел, тебе…». Как известно, двойником этой поэтической формулы начинаются «Воспоминанья в Царском Селе» 1828–1829 гг.
Воспоминаньем упоенный…
Так я растроганной душой
Сады знакомые, под ваш покров священный
Вхожу с поникшею главой…
Таким образом, воспоминанье о вдохновительнице «Полтавы» связывается Пушкиным с воспоминаниями о Царском Селе, Лицее, Кюхельбекере и Пущине.
Этот вывод подтверждается положением рукописи: приведенные стихи записаны на одном листе (2371 л. 17 об.) со следующим текстом «Полтавы»: «Давно Украина волновалась. Друзья мятежной старины // Алкали бунта и войны…».
Более того, строфы биографии любви юного «козака» – к «Марии»:
Один с младенческих годов
Ее любил любовью страстной…
Он каждый день ее видал,
Об ней он пламенно мечтал,
В ее отсутствие страдал
И краткой встречей был утешен…
(5,212–213)
отсылают нас к биографической прозе лицейского Дневника 1815 г. от 29 ноября: «Я счастлив был! Нет, вчера я не был счастлив, поутру мучился ожиданием, вдруг… нечаянно встречаюсь с ней на лестнице – сладкая минута, но я не видел ее 18 часов – Ах! Какая мука! – но я был счастлив 5 минут», – то есть тем реалиям ожидания и встречи с Елизаветой Алексеевной, возвратившейся из Вены 28 ноября 1815 г. в Царское Село, о которых шла речь в I гл. «Хранитель тайных чувств» настоящей работы.
Этот параллелизм мыслей и образов, сокрытый от «непосвященных», отражен на многих страницах творческого наследия Пушкина. На одной из них – рисунке в рукописи «Полтавы», обойденном вниманием исследователей, – мы остановимся поподробнее.
На л. 22 под начальным стихом варианта портрета «Марии» «И в самом деле»… то есть «И подлинно: в Украине нет красавицы Марии равной // Как тополь киевских высот она стройна»[16 - «Мария Волконская, – по утверждению современников – В.И. Туманского – дурна собой. Но очень привлекательна остротою разговоров». Т. Цявловская, приводя эту цитату в «Прометее» (№ 1), обходит стихи «Полтавы», говорящие об исключительной красоте Марии. Далее, цитируя стихи Пушкина: «Ее движения то лебедя пустынных вод Напоминают плавный Ход…» – пишет: «пластичность, мягкость движений М. Раевской угадываются в портретах, нарисованных Пушкиным, где она изображена еще угловатым подростком». Как понимать такие «доказательства»?], – Пушкин рисует стройный тополь, деревья, наклоненные от бури, и наброски кружки, аналог которой находится в Русском музее в Ленинграде. Кружка выполнена по заказу Елизаветы Алексеевны в 1812 г. Как уже говорилось, в фарфоровом медальоне ее монограмма «Е» и надпись: «Я руская и с рускими погибну».
Это сближение трагических судеб «революционных голов» России: И. Пущина, В. Кюхельбекера, К. Рылеева и других декабристов, так или иначе связанных с Лицеем, Елизаветой Алексеевной и Пушкиным, продолжено в стихотворении 1829 г. «На холмах Грузии», где воспоминания о тех, которые далеко, «иных уж в мире нет» – соединено с утверждением первого, девственного чувства к «Деве» Царского Села: «Я твой по-прежнему… Тебя люблю я вновь. Как жертвенный огонь чиста моя любовь И нежность девственных мечтаний…» (то есть той элегии скорби, которую М. Волконская в письме к В. Вяземской нашла «французским мадригалом», «любовной болтовней»).
Как известно, М. Волконская в своих воспоминаниях о совместном путешествии с Пушкиным по Кавказу отнесла строки «Тавриды» и финала I главы. «Онегина»: «Я помню море пред грозою. Как я завидовал волнам. Бегущим бурною чредою С любовью лечь к ее ногам», – к своей шалости 15-летней девочки, бегающей за волной по песку безоблачного Азовского побережья у Таганрога». Мемуаристку, не видевшую рукописей поэта, можно извинить. Но исследователей «Тавриды» не заинтересовал тот факт, что под стихами воспоминаний о «милом следе» Пушкин оставляет следующие даты: 1811 г. (то есть год открытия Лицея), 1812,1813,1815,1816 и т. д. до 1831 года, – года окончания «Онегина». Число «14 апреля» также не совпадает со временем совместного путешествия с семьей Раевских, так как Пушкин выехал в ссылку 9 мая 1820 г.
В связи с датами «Тавриды» уместно будет вспомнить элегические следы «Милой» 1816 г. в Царском Селе:
…к ручью пришел, мечтами привлеченный.
Не трепетал в нем образ незабвенный