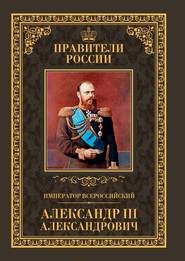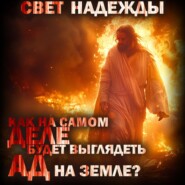По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Союз 17 октября. Политический класс России. Взлет и падение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
3 ноября 1900 года В. И. Вернадский записал в дневнике:
Действительно, рамки жизни рушатся – рамки общественной жизни. Политическая роль земства постепенно сглаживается, а сама идея самоуправления оказывается несовместимой с государственной бюрократической машиной. Оно и занятно, т. к. ясно проникло [в] огромные слои русской жизни сознание необходимости политической свободы и возможность достигнуть ее путем развития самоуправления. Вероятно, земство должно быть уничтожено, т. к. при таком общественном сознании и настроении не может быть достигнуто устойчивое равновесие, ибо самоуправление должно расширяться или постепенно гибнуть в столкновении с бюрократией.
Все или ничего – заявлял Вернадский: торжество бюрократии может предотвратить лишь торжествующее земство. «Антиземской» программе правительства необходимо противопоставить альтернативную программу, которая предполагала бы повышение значимости органов местного самоуправления в политической жизни страны.
Земство оказалось в двойственном положении. С одной стороны, оно противопоставляло себя правительственной администрации. С другой – именно оно и было властью на местах. Его настроения, взгляды в каждой земской губернии были важным обстоятельством общественного и даже политического характера. Поместное дворянство было разным. Оно имело свои особенности в каждой губернии. Считалось, что дворянство северных губерний было более либеральным, чем в центральных и южных. По наблюдениям общественного и политического деятеля, будущего октябриста и депутата Думы Э. П. Беннигсена, эта тенденция давала о себе знать даже в отдельных губерниях: так, северные уезды Новгородской губернии были либеральнее южных. Конечно, это деление в высшей степени условное. Лишь в редких случаях речь идет о системе представлений, ясном понимании собственных идеологических предпочтений. По большей части деление на консерваторов и либералов скорее эмоционально выстраданно, чем идейно осознанно. Речь идет не о разных концепциях и программах, а о разном настроении на дворянских собраниях. Северное дворянство чаще всего было беднее южного. Многие его представители не продавали имений только для сохранения ценза, который позволял им участвовать в земских и дворянских выборах.
Дворянство разных губерний по-своему понимало задачу предводителя. Тем не менее проблема была общей: предводитель дворянства представлял власть императора в уезде, не будучи чиновником, не всегда обладая необходимой квалификацией, не имея возможности опереться на столь нужный чиновничий аппарат. Дефицит управленческого инструментария можно было попытаться компенсировать личной инициативностью. Однако так редко получалось. По оценке весьма опытного государственного деятеля начала XX века С. Е. Крыжановского, половина предводителей справлялись лишь с половиной своих обязанностей. Около трети вообще текущим управлением не занимались. Некоторые проживали в губернских городах или столицах и редко навещали подотчетные уезды. Очерченных властных прерогатив у предводителя не было. Полномочия складывались по ходу дела. Разумеется, имелись и формальные обязательства предводителя дворянства. Прежде всего, он председательствовал в коллегиальных учреждениях. Э. П. Беннигсен, будучи предводителем дворянства в Старой Руссе, возглавлял 13 подобных коллегий. Правда, некоторые из них существовали только на бумаге. Однако целый ряд таких учреждений решал действительно важные общественные задачи. Так, на уездном съезде утверждались крестьянские приговоры, рассматривались жалобы на решения городского судьи, земских начальников и волостных судов. Предводитель дворянства имел право ревизовать деятельность земских начальников и волостных правлений, что, правда, редко делалось. Беннигсен все-таки решился провести ревизию, что позволило ему в деталях рассмотреть тот фундамент, на котором стояло здание российской государственности.
Прежде всего, это было волостное правление, ключевой фигурой которого был писарь. Его было принято ругать. Можно было потешаться над ним – над его малограмотностью, наивностью, а иногда корыстностью, – чего он вряд ли в полной мере заслуживал. Конечно, были случаи злоупотреблений. Но было и другое: большая делопроизводственная работа, которую вели писари за жалованье в 20–30 руб. в месяц. Можно было рассчитывать и на дополнительные заработки: за написание прошений, например. Однако это не меняло сути дела: доходы лиц, на которых стояла российская государственность, были невелики. При этом о многих писарях население отзывалось исключительно благожелательно. С волостными старшинами дело обстояло сложнее. Большинство из них принадлежали к кулачеству. Часто они не отличали свои интересы от общественных и, как правило, не вызывали крестьянских симпатий.
Собственно государственных служащих в уезде было чрезвычайно мало. В первую очередь их представляла малочисленная полиция. Например, в начале XX века в Старорусском уезде проживали 200 тыс. чел. На них приходились 30 городовых, 4 становых пристава, 15 урядников. Был дефицит и в жандармах. На огромную Новгородскую губернию приходились 3 жандармских офицера и около десятка унтер-офицеров.
В условиях дефицита бюрократии земство и дворянские собрания – это не «пятое колесо в телеге» российской государственности, а важный и необходимый ее элемент, своенравный и недовольный – причем не без основания.
Земская работа имела под собой деловую основу. Это социокультурная среда, объединявшая людей, говоривших приблизительно на одном языке, на котором, правда, они могли отстаивать разные, подчас противоположные идеи. Она объединяла непохожих людей. Земство не было политической партией. Принадлежность к нему отнюдь не подразумевала клятву верности общим политическим принципам. Однако из этого не следует, что органы местного самоуправления не могли быть вовлечены в политику. Они включились в нее, но по-своему. Земцы разных взглядов, разных «мастей» были готовы защищать свои корпоративные интересы. Они вовлекались в политику в известном смысле поневоле. Это был тот случай, когда политика приходила к ним в дом, а не они приводили ее.
Отчасти это объясняет идеологическую рыхлость, характерную в том числе для сложившегося в ходе Первой революции «Союза 17 октября», главной партии земского движения. Эта среда не стремилась к программной монолитности, которая едва ли была достижимой, и существовала по законам отнюдь не партии, но социального организма.
Впоследствии в Государственной Думе были представлены разные партии и объединения, сословия и социальные группы, конфессии и национальности. Это непременно учитывается при анализе депутатского корпуса. И все же есть показатель, значащий не меньше всех выше названных, о котором обычно забывают: многие депутаты были членами органов местного самоуправления – земств и городских дум. В Третьей Думе таких народных избранников было 229 (47%) из 485. Причем в некоторых фракциях процент был выше: среди прогрессистов – 52%, правых октябристов – 55%, октябристов – 75%, независимых националистов – 88%. В Четвертой Думе деятелей органов местного самоуправления было еще больше. Они составляли более половины фракции кадетов (25 из 49), 47% Группы правых, 59% прогрессистов, 60% русской национальной фракции и 61% националистов-прогрессистов, 79% правых беспартийных, 83% членов фракции центра, 88% земцев-октябристов и 92% группы «Союза 17 октября». Эти показатели тем более значимы, если иметь в виду существование особой земской «субкультуры», у представителей которой были собственные интересы и собственное видение будущего России.
ДРОЖАЩАЯ ЗЕМЛЯ
Ощущение зыбкости социальной «почвы» было свойственно и России, и всему Старому Свету на протяжении всего «долгого» XIX столетия, которое и не думало заканчиваться в 1901 году. Общество в значительной части оставалось традиционным. Оно держалось за привычный уклад жизни. С каждым годом это становилось сложнее. Быт менялся на глазах, что сказывалось на всех сферах деятельности. Пока еще живая традиция стремительно устаревала, что само по себе способствовало возникновению конфликтов. В течение XIX века в европейской деревне вскипали волны возмущения: в Апулии и Калабрии – во имя святой веры и против местных якобинцев; в Кастилии и Арагоне, в Леоне и Наварре – против испанских либералов; в Тироле – во имя императора Священной Римской империи и церкви. В индустриализации видели угрозу привычному порядку и народной нравственности, что имело определенные основания. Бывший крестьянин, не всегда удачно приспосабливавшийся к городской жизни, нередко предавался пьянству. Так было и в Англии, и в Германии, и в России. Городской быт был сопряжен со многими рисками: например, массовыми эпидемиями. После частых неурожаев наступал голод. Этот мир не был стабильным. Он подразумевал постоянное напряжение, а значит, конфликты. Это было естественным и непременным – наподобие явлений природы. Крестьянские волнения, рабочие движения, выступления ремесленников происходили во Франции в течение всего XIX века. Европейская деревня периодически переживала голодовки, которые оборачивались волнениями и даже восстаниями. Волны сходили на нет, обращались в зыбь на воде, если правительство, уверенное в себе, а главное – в своем праве на власть, так или иначе восстанавливало прежний порядок. Трудно решаемые проблемы возникали тогда, когда происходил почти одномоментный распад управленческой вертикали.
С началом XX века на политических просторах России были все более различимы сполохи будущего 1905 года. Его ждали как плату за четверть столетия мнимого спокойствия, когда казалось, что история замерла, совершила свой последний оборот, достигнув предела возможного. Но земля дрожала под ногами… В январе 1903 года у военного министра А. Н. Куропаткина собралось совещание по вопросу о воинской повинности. Председательствовал министр внутренних дел В. К. Плеве. После заседания он сообщил Куропаткину, что ожидал аграрные беспорядки в Полтавской, Воронежской и, может быть, даже в Саратовской губерниях. По мысли министра внутренних дел, там следовало использовать войска. Он был настроен решительно и полагал необходимым прибегать к самым суровым репрессивным мерам. Также он просил направить воинские части в Вятку, ожидая беспорядки и там. В беседе с Куропаткиным 1 апреля 1903 года Плеве высказывал беспокойство о состоянии Ростова и Кубани. Кроме того, он полагал необходимым как можно скорее сформировать конную полицию на Урале. Плеве напоминал, что не так давно произошли беспорядки в Златоусте. Было много убитых и раненых. Министр спрашивал, можно ли обеспечить войска пулями менее «убийственными», чем сейчас. Плеве не был алармистом среди олимпийского спокойствия сановников-небожителей. Предчувствие скорой катастрофы было у многих. 24 июля 1903 года Куропаткин обедал у С. Ю. Витте. Компанию составил министр юстиции Н. В. Муравьев. И Муравьев, и Витте предсказывали скорые беспорядки и потоки крови. Обвиняли в этом Плеве, его цинизм и бестактность.
Полтора года спустя, уже после Кровавого воскресенья, сановники обсуждали недавние события, их причины и последствия. Не было сомнений, что произошедшее было следствием общественного брожения, начавшегося сразу после убийства В. К. Плеве 15 июля 1904 года. Масштаб событий был поразителен. Но что они собой представляли? Министр финансов В. Н. Коковцов попытался обобщить опыт последнего полугодия. Он выделял три проблемы: революционные погромы, рабочий вопрос и общественное движение, которое заявляло о себе в публикациях прессы и резолюциях дворянских собраний. Первая не вызывала колебаний. Революционные эксцессы следовало подавлять. Их участников – наказывать. Рабочий вопрос надо было решать системно, по мере возможности удовлетворяя чаяния фабричных. Как ни странно, Коковцов особо выделял третью проблему. Она казалась ему наиболее сложной. Земцы представлялись опаснее рабочих и даже профессиональных революционеров. Трудно угодить дворянским собраниям в условиях военного времени. С такой постановкой вопроса вполне соглашался товарищ министра внутренних дел П. Н. Дурново: «Смуту, как революцию, не делает толпа, а лишь образованный класс». Их рассуждения поддерживал С. Ю. Витте. Он воспроизводил заметно упрощенную славянофильскую логику. По его мысли, царь основывал свою власть на поддержке широких народных масс, чьи интересы он никак не мог игнорировать. Они, в свою очередь, были искренне преданы идеалам самодержавия. Если вдруг будет провозглашена конституция, настанет время белого террора, который учинят сами рабочие. Сановники описывали процесс, который только набирал ход. Они не представляли себе характер и масштаб явления. Могли только догадываться.
О событиях воскресенья 9 января 1905 года знали заранее, 7 и 8 января. Многие уезжали из города. На Финляндском вокзале было настоящее столпотворение. Ситуация усугублялась тем, что 7 января забастовала электрическая станция. В итоге не работали трамваи, театры и кино. Многие рестораны были закрыты. Петербург был погружен во тьму. 8?го утром министр внутренних дел князь П. Д. Святополк-Мирский был у военного министра, договаривался о переброске войск в столицу. В тот же день было совещание у министра внутренних дел, на котором присутствовал начальник штаба войск гвардии и Санкт-Петербургского военного округа генерал Н. Ф. Мешетич и градоначальник И. А. Фуллон. Обсуждался план дислокации войск. Чуть позже состоялось совещание министров, на котором, кроме Святополк-Мирского, присутствовали министр юстиции Н. В. Муравьев, министр финансов В. Н. Коковцов, товарищ министра финансов В. И. Тимирязев, товарищ министра внутренних дел К. Н. Рыдзевский и др. Стало известно, что к Мирскому отправилась делегация общественности, в том числе Максим Горький, историк Н. И. Кареев, юрист и литератор К. К. Арсеньев и др. Министр принять их не мог – вечером у него была назначена аудиенция у императора. Встретить делегацию поручалось Рыдзевскому. Министр вернулся около одиннадцати вечера. Он с трудом добрался до дома, так как у Царскосельского вокзала стояла большая толпа. Кто-то пустил слух, что император должен вернуться в столицу, и некоторые петербуржцы его поджидали. Святополк-Мирский сообщил своим сотрудникам, что вся ответственность за события предстоявшего дня ложилась на военное командование.
С утра по городу передвигались войска: кавалерия, пехота, казаки, походные лазареты, кухни. Рабочие двинулись к центру города с разных сторон. К 12 часам дня более 15 тысяч человек оказались в Невском районе. После некоторых пререканий по толпе был дан залп, и казаки с нагайками разогнали толпу. У Нарвских ворот рабочих было заметно больше: около 30 тысяч. Во главе демонстрации шел сам Гапон. Там тоже раздался залп. Были убитые и раненые. Гапон бросился через огороды к Воскресенскому женскому монастырю, на кладбище. Особенно много жертв было в самом центре города, в Александровском саду. Первый залп был дан поверх голов. Это были боевые заряды из ружей, предназначенных для стрельбы по дальним целям. В итоге пострадали горожане, случайно оказавшиеся рядом. Погиб швейцар Александровского лицея, ставший жертвой собственного любопытства. Ему хотелось посмотреть на происходящее. Убили женщину, переходившую с ребенком улицу. Это произошло в двух верстах от места стрельбы. Попал под обстрел С. Ю. Витте, вышедший на балкон своего дома. Пули пролетели прямо над ухом.
Стрельба была и на Васильевском острове у Николаевского моста. И там были раненые и убитые. На острове хозяйничали хулиганы, которые бесчинствовали весь день. На Четвертой линии были построены баррикады, развевались красные флаги. Был захвачен оружейный магазин. Его содержимое разошлось по городу. Здесь порядок приходилось наводить силой, а баррикады буквально брать штурмом.
Невский проспект был запружен народом. Там было более сотни тысяч людей. Ими никто не руководил, но они шли к центру города, к Дворцовой площади. Литератор С. Р. Минцлов решил выйти посмотреть, что происходит. Он шел по Кирилловской улице, по которой валила с ближайших фабрик толпа. Казаки вынудили ее разойтись. Минцлов с приятелями свернул на боковые улицы. На Суворовском проспекте стояли отряды драгун. Перекрестки Невского охраняли пешие и конные заставы. Они развели костры и плясали вокруг них, спасаясь от холода. На 1?й Рождественской улице были устроены походные кухни. Минцлов взял извозчика и направился к Адмиралтейству. Экипажей было много, они плелись друг за другом. Минцлов отпустил извозчика рядом с аркой Главного штаба и пошел в сторону Дворцовой площади, с трудом протискиваясь сквозь плотную толпу. Площадь была совершенно пуста. Только у дворца стояли войска. Выезды охраняли конногвардейцы. Минцлов решил направиться к Миллионной. Оттуда раздавались крики. Эскадрон обнажил палаши и поскакал в ту сторону. Минцлов только завернул за угол Невского. Позади раздались вопли. Извозчики, экипажи опрометью поскакали с Морской. Минцлов вжался в стену дома. Мимо него неслась толпа. Конногвардейцы расчистили арку и самое начало Морской улицы. Минцлов дошел до Полицейского моста. Тут раздался залп, затем другой. «Холостыми, холостыми палят», – заговорили кругом. Но стреляли не холостыми. На набережной Мойки было много рабочих. Раздавался свист и крики. Минцлов шел к Марсовому полю. За ним раздался крик. Кавалерия бросилась на мост. Толпа кинулась врассыпную.
Первой стреляла рота Преображенского полка, которой командовал капитан Н. Н. Мансуров. По его словам, это было вызвано тем, что толпа напирала на строй солдат, осыпая их оскорблениями. Следующий залп был дан Семеновским полком у Полицейского моста рядом с дворцом Строгановых. Люди бросились бежать по Мойке.
К 8 вечера начальник канцелярии министра внутренних дел Д. Н. Любимов торопился на квартиру Святополк-Мирского. Как раз тогда от министра уходили Лопухин и Рыдзевский, которые шли готовить всеподданнейший доклад и правительственное сообщение. У министра сидел директор Департамента общих дел Э. А. Ватаци. Сам Мирский ходил по кабинету и курил. Спросил, видел ли кто-либо градоначальника Фуллона. Его не могли найти уже два часа. К девяти часам приехал командир первого армейского корпуса барон Ф. Е. Мейендорф, а также начальник штаба округа генерал Мешетич. Спустя некоторое время прибыли Дурново, а также начальник штаба жандармов В. А. Дедюлин. Ждали Фуллона. Его имя вызывало только раздражение. Наконец, вошел и он, еле передвигая ноги. Постарел буквально за один день. Он не мог приехать раньше, так как был на Васильевском острове, где разворачивались драматические события. Там пришлось штурмовать баррикады. Потом заехал домой, чтобы написать прошение об отставке. Воцарилось молчание. Святополк-Мирский попросил всех сесть. Министр спрашивал, кто дал приказ о стрельбе. Фуллон сбивчиво объяснял, что был лишен возможности что-либо решать. Стрельба происходила в разных частях города. Решение принимали военные власти. П. Н. Дурново видел ошибку в том, что были вызваны пехотные части. Следовало ограничиться кавалерией и казачьими частями, которые могли разогнать толпу нагайками. Это замечание возмутило Мешетича. Вызванные воинские части обладали всем разнообразием вооружения. Они были дислоцированы в соответствии со сведениями градоначальника. «Что же касается стрельбы, то это неизбежное следствие вызова войск. Ведь не для парада их вызывали?» Пока шло обсуждение, в кабинет вошел курьер и доложил, что прибыл московский обер-полицмейстер генерал Д. Ф. Трепов. Любимов вышел в приемную. Там у окна стоял Трепов в парадной форме. Он официальным тоном произнес: «Прошу вас, несмотря на заседание, сейчас же доложить министру внутренних дел, что по высочайшему повелению к нему прибыл санкт-петербургский генерал-губернатор».
Утром следующего дня город был запружен войсками. Было людно, но спокойно. На Большом проспекте Петербургской стороны магазины и винные склады были разграблены, торговля прекращена. Окна были закрыты щитами. Так было на некоторых улицах столицы. Вечером не было электричества. Тьма стояла кромешная. Порой грабили магазины. «Невский темен и мрачен, как гроб; нигде ни фонаря, ни освещенного окна; панели полны стоящим народом; киоск на углу исковеркан». 11 января жизнь города постепенно входила в привычное русло. Конечно, оставались знаки времени: разбитые окна, сожженные киоски, а иногда даже пятна крови. Оставалось чувство тревоги. Ходили бесчисленные толки о том, что было и что будет. В магазине Невского стеаринового товарищества толпились люди, запасались свечами.
Дальнейшие волнения в сознании современников не вполне складывались в революцию. Они смотрелись скорее прелюдией. Решающих событий только ждали. Стачечное движение шло волнами, которые, даже спадая, были неизмеримо выше, чем раньше. В январе бастовало 444 тысячи человек, в феврале – 293 тысячи, в марте – 73 тысячи. После 12 января столичные заводы постепенно возвращались к работе. Пока стачечное движение имело очаговой характер. Разумеется, оно охватило Санкт-Петербург. В Москве оно не получило широкого распространения. Центральная Россия по большей части пока молчала. Заволновались прибалтийские губернии, Царство Польское, Поволжье.
Региональные власти были готовы на значительные уступки местной общественности. 19 марта 1905 года граф И. И. Воронцов-Дашков, недавно назначенный наместником на Кавказе, беседовал с другом В. А. Старосельским, будущим кутаисским губернатором, а спустя некоторое время членом фракции большевиков РСДРП. Воронцов-Дашков обрисовал программу своих ближайших действий:
Политика на Кавказе будет направлена всецело на умиротворение края путем неотложного введения самоуправления, суда присяжных и проч., и ряда аграрных и других реформ в области местной жизни. Политика Голицына будет отметена совсем. Все национальности для графа равны и одинаково дороги, и пробудившееся в них самосознание и национальное чувство граф считает вполне нормальным и симпатичным явлением. Он желает быть строгим к администрации и мягким к народу. Все реформы, которые будут даны России, немедленно будут распространены на Кавказ и учреждение наместничества ни на йоту не затормозит развитие края.
В апреле 1905 года будущий министр народного просвещения, а пока попечитель Варшавского учебного округа А. Н. Шварц жаловался С. И. Соболевскому на малодушие столичных властей: «Всякое решительное твердое мероприятие для водворения порядка осуждается; всякому праздному – болтуну предоставляется полная свобода противодействовать порядку. Даже гимназистов боятся! И Министерство [народного просвещения] более всех!» Высокопоставленный чиновник Министерства внутренних дел А. А. Шульц только вернулся из поместья, которое располагалось в центральной черноземной губернии. Он живописал крестьянские беспорядки. Главным агитатором был управляющий удельного имения. Возникал логичный вопрос: почему Шульц не сообщил об этом министру двора? «Вы ошиблись адресом. Я пока еще не поступил в шпики». И это притом, что по своим взглядам Шульц был крайне правый. Тогда было модно слыть оппозиционером. В оппозиционные политические объединения записывались высокопоставленные чиновники, в том числе сотрудники министра внутренних дел. Председатель Совета съездов горнопромышленников Юга России Н. С. Авдаков объяснял знакомым: «Поверьте мне, что я не могу быть на стороне правительства. Ведь я армянин, которых правительство преследует, и потому я могу в глубине души быть только врагом правительства». Два месяца спустя, когда положение правительства заметно упрочилось, взгляды Авдакова драматически переменились.
События 1905 года разворачивались на фоне Русско-японской войны. Разумеется, неудачи на Дальнем Востоке больно били по авторитету правительства. Однако проблема заключалась отнюдь не только в этом. Армия на окраинах империи не могла быть инструментом репрессивной политики. Наконец, имели место трудности, дававшие о себе знать и в мирное время. Управление армией не отличалось отлаженностью. Военный министр часто сталкивался с сопротивлением со стороны командующих округами. В период министерства П. С. Ванновского эта проблема решалась благодаря тому, что сам руководитель ведомства пользовался доверием Александра III. Однако и в этом случае Санкт-Петербургский военный округ во главе с великим князем Владимиром Александровичем и Варшавский, которым управлял И. В. Гурко, мало зависели от министра. При А. Н. Куропаткине «эмансипировались» Московский и Киевский округа. При В. В. Сахарове ситуация еще ухудшилась. С этой проблемой столкнулся и А. Ф. Редигер летом 1905 года, заняв пост военного министра. Иными словами, армия не была в полной мере послушным орудием в руках правительства.
При этом военные части, оставшиеся в Европейской России, были заметно ослаблены. Офицерский состав был случаен, нижний – набирался из запасных. Отчасти по этой причине и в армии происходило брожение, которое охватывало все общество. Осенью 1905 года с Дальнего Востока преимущественно возвращались запасные части, которые сами по себе представляли опасность. Для подавления беспорядков приходилось вызывать особые казачьи подразделения. Дезорганизация охватила значительную часть армии, пожалуй, за исключением кавалерии и гвардии. По оценке А. Ф. Редигера, это во многом была заслуга великого князя Владимира Александровича. Он допускал перевод гвардейских офицеров на Дальний Восток лишь при том условии, что в гвардию они не вернутся. Впоследствии, в ноябре, министерству пришлось принимать срочные меры: по возможности увеличить содержание рядового состава, находившегося в бедственном положении; распустить запасных, которые сами по себе становились фактором нестабильности.
МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ
1905 год был и остается загадкой для историков. Озадачил он и современников, которые были обескуражены калейдоскопической сменой политических декораций. Прежний спектакль был завершен. Начался новый, но никто не знал, о чем он и как называется. Во всеподданнейшем докладе от 9 октября председатель Комитета министров С. Ю. Витте писал о понятии «свобода», которое стало краеугольным камнем всего общественного движения. Под свои рассуждения Витте подвел особую правовую теорию. По его мысли, гражданская свобода лежит в основании любого государственного уклада. Государство потому и необходимо, что оно ограничивает сильного и защищает слабого. Мир без государственной власти – это великое множество тираний, это дикий лес, где есть свобода быть съеденным сильнейшим. Учреждая государство, человек защищает подлинную свободу. Однако, как это часто случается, форма отрывается от содержания. Она становится самоцелью, подчиняя себе все вокруг. О свободе почти забывают. Но все же она периодически напоминает о себе:
Если форма, ставшая внешним фактом, своей реальной силой не дает ей гореть во все блеске, она теплится, как раскаленный уголь в груде золы. Повеет ветром – уголь вспыхнет ярким пламенем. Пойдет дождь – он снова будет мерцать едва заметно до новой вспышки.
Витте подводил своего августейшего читателя к мысли о неминуемости радикального политического разворота. Он обусловлен всем ходом русской истории, коренится в глубоком прошлом Новгорода, Пскова, запорожского казачества, низовой вольницы Поволжья, церковном расколе, выступлениях против политики Петра Великого, в движении декабристов…
Игнорируя общественные чаяния, власть способствует их радикализации. Витте называл это «идейной революцией».
Общественная мысль поднялась над землей и безудержно рвется в облака. Еще и года не прошло, когда требование всеобщего избирательного права принадлежало одним наиболее крайним элементам. Теперь нет союза или газеты, которые бы его не выставляли.
Стремительная радикализация общественных настроений должна была вывести политическую систему из равновесия. Следовало решительно действовать, пока это не произошло, пока инициатива принадлежала правительству, пока положение в стране оставалось более или менее управляемым. Это не могло продолжаться вечно. Общество требовало все больше. Спустя короткое время оно могло поставить вопрос о существовании России как таковой. Лидерство перехватывали радикальные элементы, которые не были готовы к сотрудничеству с правительством и видели свой успех в искоренении противника.
Главная проблема заключалась в том, что правительство не имело права игнорировать общественные настроения. Не стоило полагаться на народное сочувствие. Широкие массы пассивны, а общественность активна и ее слово в итоге окажется решающим. Так случилось в 1881–1882 годах. Тогда произошел консервативный разворот в общественной мысли и настроениях. На новом этапе подобные метаморфозы были немыслимы. Отложенный вопрос политического прогресса требовал решения. Каждый день отсрочки усугублял ситуацию. Требования оппозиции только возрастали. Пока не настал хаос, стоило согласиться на конституцию. Витте убеждал царя, что она могла быть совместима с самодержавием. Правительство не должно было на этом останавливаться. Ему следовало пойти дальше – путем социальных реформ, задумавшись о рабочем, аграрном, окраинном вопросе.
Вечером 9 октября С. Ю. Витте отплыл на пароходе в Новый Петергоф. Его принял император, перед которым были обрисованы две перспективы: диктатура или конституция. Председатель Комитета министров подталкивал царя ко второму решению. Себя же видел главой правительства, оговаривая за собой право формировать кабинет по своему усмотрению, в том числе с участием общественных деятелей. На следующий день Витте вновь в Петергофе. Он повторил все то же – но в присутствии не только императора, но и императрицы. 13 октября Витте получил депешу от царя, в которой говорилось о его назначении председателем Совета министров, но ничего – о политических преобразованиях. При таких обстоятельствах Витте не собирался принимать назначение. В свою очередь Николай II не хотел соглашаться с навязываемой ему программой. Подготовленный Витте проект следовало еще обсудить.
14 октября столица не освещалась. Железные дороги не работали. На квартире Витте состоялось совещание. На нем присутствовали военный министр А. Ф. Редигер, генерал-губернатор Петербурга Д. Ф. Трепов, министр путей сообщения князь М. И. Хилков. Обсуждался вопрос о восстановлении железнодорожного движения. Трепов объяснил, что в столице хватит военных сил для обеспечения порядка. Однако их недостаточно для того, чтобы гарантировать сообщение между Петербургом и Петергофом. Основные военные силы – за Байкалом.
В тот день погода была скверная. Шел снег с дождем. Пароход, на котором Витте плыл в Петергоф, качало из стороны в сторону. Компанию председателю Комитета министров составлял помощник управляющего делами этого учреждения Н. И. Вуич. Они вдвоем перечитывали текст доклада, говорили о необходимости принять хоть какое-то решение. Причалив к берегу, Витте немедленно отправился к императору. Пробыл у него до часа и спустя некоторое время вновь посетил государя. Возвращались назад после пяти вечера, когда было уже темно. И на этот раз решение было отложено. 15 октября в 9 часов утра пароход вновь взял курс на Петергоф. Компанию Витте и Вуичу составили барон В. Б. Фредерикс и князь А. Д. Оболенский. Оказывается, последний подготовил проект манифеста. Его тут же стали обсуждать. Текст требовал редактуры, но на нее времени не было. Ясно было только то, что в манифесте речь должна была идти о гражданских свободах и законодательной Государственной Думе. Пока Витте был у царя, его коллеги работали над текстом. По окончании совещания председатель Комитета министров вновь поехал во дворец. Там присутствовал великий князь Николай Николаевич, барон Фредерикс и генерал О. Б. Рихтер. После некоторых колебаний Николай Николаевич поддержал Витте. То же сделал и Рихтер. Николай II обещал вечером дать знать, если согласится с их доводами. Вновь около пяти вечера пароход отплыл в Петербург. Ждали новостей из Петергофа. Они не приходили. Как раз в это время император совещался с И. Л. Горемыкиным и А. А. Будбергом. Горемыкин подготовил свой проект. Имелся и третий вариант, представлявший собой компиляцию первых двух. Предложения были, решения не было. В Петергофе молчали и 16 октября. 17?го днем Витте вновь отправился к царю.
17 октября 1905 года до жены С. Е. Крыжановского дошли слухи о готовившемся манифесте. Точно никто ничего не знал. В 11 часов вечера позвонил Вуич. Витте требовал к себе Крыжановского, которому пришлось срочно отправляться на Каменный остров. В дежурной комнате узнал о подписанном манифесте. В своем кабинете С. Ю. Витте шагал из угла в угол. Князь А. Д. Оболенский сидел на диване. Витте был озабочен вопросом об избирательном праве. Он предполагал максимально его расширить, привлекая самые широкие массы к выборам в будущую Думу. Витте и в особенности Оболенский стали наперебой предлагать свои варианты. По обыкновению, у князя Оболенского одна фантазия немедленно покрывала другую в самых противоречивых сочетаниях. Ему хотелось в две минуты отыскать способ согласовать широкое, почти всеобщее избирательное право с гарантиями предсказуемости выборов. Он перескакивал от всеобщих равных выборов к выборам всеобщим же, но по сословиям, от них – к выборам по профессиональным группировкам, потом опять к всеобщим, но ограниченным известным имущественным цензом, и т. д. «Это была какая-то яичница предположений, видимо до моего прихода обсуждавшихся, в которой Витте совершенно потонул». По ощущению Крыжановского, чувствовалось отсутствие какого-либо плана действий. Возвращаясь домой, он проезжал через Марсово поле. Там стояли манифестанты, размахивали флагами, что-то кричали про «белого царя». Петербург не утихал. В три часа ночи Крыжановский заехал к министру внутренних дел А. Г. Булыгину. Тот подписывал какие-то бумаги. Его жена дремала в кресле. Булыгин показал корректурные листы с манифестом. Их прислали из «Правительственного вестника». Министр внутренних дел ничего не знал о готовившимся акте, что вызывало у него недоумение. Он прекрасно понимал, что это его последние дни в должности министра. Рассказывал, как еще днем приходила гувернантка детей П. Н. Дурново по прозвищу Кикиша, осматривала квартиру, решая, где разместить мебель: «И подумайте только, какая бесцеремонность у Дурново. Уже переезжать на мое место собираются, а мне ничего не говорят».
Революция разворачивалась в первую очередь в столице. Буря была в Петербурге, а затем кругами расходилась по всей стране. В этом не было ничего уникального. Нечто подобное случилось во Франции в 1848 году. И там поначалу революция мобилизовала немногих. Состоялось 70 банкетов, в которых участвовали приблизительно 17 тысяч человек. Произошел митинг, на который вышло около тысячи студентов и рабочих. В течение дня число митингующих увеличилось до 3 тысяч человек. Правда, к тому времени в Париже оппозиционные настроения давно укоренились. В центре растущих настроений, ожиданий и разворачивавшихся волнений оказался университет, безустанно производивший интеллектуальный пролетариат – юристов без шансов устроиться на службу.
В октябре 1905 года петербургские улицы представляли собой печальное зрелище. Движение замерло. Они не освещались. Перемещались лишь патрули и разъезды. Вместе с тем прежде бастовавший телеграф ожил. По России расходились новости о манифесте, ставя местную администрацию в тупик. Пришла шифрованная депеша от наместника Кавказа графа И. И. Воронцова-Дашкова:
В местной прессе… печатается на основании агентской телеграммы весьма странный по форме и неясный по существу манифест. Сомневаюсь, подлинный ли это. Прошу срочно почтить указанием.
Точно также и ярославский губернатор А. П. Рогович отказывался верить в подлинность документа. Более того, он конфисковал номера газет с манифестом. Когда выяснилось, что манифест подлинный, Рогович подал в отставку. В Перми на площади зачитывался манифест. Явился губернатор А. П. Наумов. Его подхватила толпа и повела по улице за красными стягами. Полиция еле отбила губернатора. Вскоре Наумов подал в отставку. Минский губернатор П. Г. Курлов узнал о манифесте из донесений полиции, в которых говорилось, что толпа читает какой-то документ, выставленный рядом с его резиденцией. Он приказал снять плакат и принести ему. Так он узнал о принятых в столице решениях. В Томске с разрешения губернатора состоялось массовое шествие. Участие в нем принял и сам «хозяин» губернии В. Н. Азанчевский. Процессия шла с царскими портретами, пела гимны. По ходу движения к ней присоединились самые разные элементы, отчасти сомнительные. Толпа подошла к театру, где митинговали студенты и рабочие. Из театра в процессию полетели камни. Театр был окружен и сожжен. Многие там задохнулись. Приблизительно в это же время был разгромлен дом городского головы А. И. Макушина, который сам участвовал в студенческом митинге. Справиться с беспорядками губернатор не мог. В итоге и он подал в отставку. Нечто подобное происходило в Москве, Варшаве, Киеве, Одессе… В Москве на Театральной площади митинговали студенты. Выступал ректор Московского университета А. А. Мануилов. Он поздравлял «свободных граждан». Студенты направились в сторону резиденции генерал-губернатора на Тверской улице. К главе московской администрации П. П. Дурново поднялась делегация с требованием освободить арестованных за участие в недавних беспорядках. Дурново вышел на балкон в сопровождении студентов с красными флагами. Генерал-губернатор благодарил толпу и обещал «снестись с Петербургом» относительно освобождения заключенных. Толпа свистела и кричала. В это время, по совпадению, через площадь проехала тюремная карета, которая перевозила отнюдь не политических заключенных, а бродяг и воров. Толпа бросилась их освобождать. Конвойные стреляли. Генерал-губернатор продолжал выступать на балконе. Студенты за его спиной размахивали красными флагами. В это время на Немецкой улице Москвы толпа во главе с Н. Э. Бауманом шла освобождать арестованных. Случилась стычка с полицией, в которой участвовали дворники из соседних домов. Бауман был убит ударом лома по голове. На следующий день были организованы его «красные похороны». «Все было красное: гроб, банты, цветные перевязи у несших гроб, красные флаги, красные плакаты с надписью „Долой правительство“ и др.». За гробом шли несколько десятков тысяч человек. По распоряжению московской администрации этому шествию никто не мешал.
В Киеве и Одессе произошли еврейские погромы. В Варшаве движение возглавили польские националисты и религиозные лидеры. Впереди манифестации шел католический архиепископ. Развевались национальные флаги с одноглавым орлом. В Прибалтике, в остзейских губерниях (современные Латвия и Эстония), фактически разворачивалась настоящая гражданская война. Там в ноябре 1905 года беспорядки по масштабам превзошли те, что имели место в сентябре и октябре.
Ситуация накалялась. Требований к правительству становилось все больше. Оно чувствовало себя все менее уверенно. Представители общественности – напротив. 18 октября в 11 часов утра Витте принял главных редакторов столичных журналов и газет. Они столпились вокруг будущего главы правительства. Витте говорил о необходимости сотрудничества, просил успокоить умы. Присутствовавшие повторяли два тезиса: нужна политическая амнистия и следует вывести войска из Петербурга. Последний пункт вызывал категорическое неприятие Витте. Ему говорили: если вооруженные силы останутся в столице, газеты выходить не будут. «Пускай уж лучше не будут выходить газеты», – парировал Витте.
Предстояло решить вопрос о будущих выборах в Думу. Крыжановский отказался принципиально менять архитектуру избирательного закона, подготовленного прежде. Она была слишком изощренной, чтобы перечеркнуть результаты всех прежних трудов. Крыжановский пытался ограничиться частными поправками. Так, были введены новые разряды избирателей, в том числе рабочая курия. В середине дня к нему заехал общественный деятель профессор В. Д. Кузьмин-Караваев. Его прислал Витте в расчете, что тот может помочь в деле усовершенствования избирательного закона. Кузьмин-Караваев был вполне удовлетворен подготовленным проектом. Витте прислал к Крыжановскому и Д. Н. Шипова, бывшего председателя Московской губернской земской управы. Тот был убежденным славянофилом и, следовательно, сторонником самодержавия, которое, правда, понимал как явление не государственного, а скорее нравственного порядка. Он не одобрял Манифеста 17 октября, скорый созыв законодательной Думы, но ничего своего предложить не мог.
На следующий день Крыжановский вновь встретил Кузьмина-Караваева – на квартире С. Ю. Витте. Чувствовалось, что граф хотел понравиться профессору. Долго тряс ему руку и сладчайшим образом улыбался. Кузьмин-Караваев, напротив, покровительственно жал руку главе правительства. Было очевидно, что Караваев уже готовился к должности министра юстиции. Он возвращался от Витте вместе с Крыжановским и вышел как раз у здания Министерства юстиции: «Надо зайти поторопить министерство с амнистией».
У князя А. Д. Оболенского в Зимнем дворце прошло не одно совещание с участием общественности. Крыжановский вспоминал, что «были там М. А. Стахович, с его длинной бородой, всегда в подпитии, Муромцев, князь Е. Н. Трубецкой, Д. Н. Шипов и еще кое-кто». Они дружно убеждали Витте в спасительности всеобщего избирательного права. Эта точка зрения находила понимание и у части бюрократии. В пользу всеобщего избирательного права говорили главноуправляющий землеустройством и земледелием Н. Н. Кутлер, министр путей сообщения К. С. Немешаев и в особенности министр торговли и промышленности Д. А. Философов. «Он был очень толст, с толстыми губами и языком, и когда увлекался речью, то слюни у него летели изо рта фонтаном», – что, по воспоминаниям Крыжановского, имело исключительно комический эффект. Философов убеждал коллег, что идея равенства укоренена в сознании русского крестьянина. В качестве доказательства он приводил примеры недавних аграрных беспорядков. Перед крестьянами одной деревни стояла непростая задача раздела помещичьего фортепиано. В итоге они его рубили на части, чтобы остальным не было обидно. Очевидно, подобные истории скорее умиляли выступавшего.
Когда проект Положения о выборах был готов, С. Ю. Витте поехал докладывать о нем государю. Председатель Совета министров «прихватил» с собой Крыжановского. Витте чувствовал себя недостаточно уверенно в этом вопросе и нуждался в помощнике. Сначала в кабинет императора вошел Витте, через несколько минут он позвал Крыжановского. Они пробыли у царя около двух часов. Император вникал в детали, проявил любознательность, притом что было видно: новый порядок его симпатий не вызывал. Он с раздражением отмахнулся от слов Витте, что историческая власть в народном представительстве найдет устойчивую поддержку: «Не говорите мне этого, Сергей Юльевич, я отлично понимаю, что создаю не помощника, а врага, но утешаю себя мыслью, что мне удастся воспитать государственную силу, которая окажется полезной для того, чтобы в будущем обеспечить России путь спокойного развития, без резкого нарушения тех устоев, на которых она жила столько времени». Витте чувствовал себя не в своей тарелке: «Он весь как-то ежился и маялся и совсем не похож был на великолепного и развязного Витте, грубо обрывавшего своих противников на разных совещаниях».