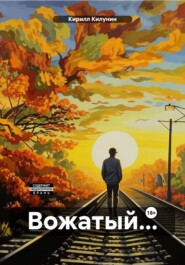По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История моего моря
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я знаю, что сибирские скифы были умелыми войнами, украшали свое тело татуировками, изображавшими рыб и хищных котов, поклонялись огненной деве – богине Табите – Весте, поэтому любили магию золота.
Не скифов, не остяков, ни русских здесь нет давно.
Люди всегда уходят, а география места остается, также как некоторые его топографические особенности. Свой кедр – исполин растет на каждом из трех холмов бывшего Остяцкого, вцепившись в эту землю корнями, почерневшими от прошедшего за горизонт времени и безвременья, и ставшими от этого тверже стали. От этого и стоят кедры гордо как войны. Сами выросли? Нет… Думаю, их кто – то посадил здесь когда-то – специально. Возможно, для того, чтобы дух этого священного и почитаемого Отцом – дерева хранил людей, тех, что решили ставить в долине четырех холмов свои дома – жилища из лосинных шкур, землянки, бревенчатые избы и дощаные бараки. Случилось это лет триста или четыреста назад, так как теперь кедры замогучели – в два три обхвата и с полсотни метров до макушки, усыпанной шишками. Так и стоят застывшие в веках истинные стражи этой земли, которым некого охранять, кроме могил забытых предков и развалин домов.
В паре метров от меня, из под земли пробивается родник. Вода конечно в нем чистейшая, только не могу почувствовать ее вкуса, настолько она ледяная. На дне родника желтый песок, наверное, поэтому вода из родника не стекает говорливым потоком вниз, а возвращается – обратно, под землю, откуда пришла, просачиваясь сквозь песчаное дно, похожее на ровный круг размером в локоть – словно солнце, отразившееся в этой живой воде.
Вода, набранная в ладони вкусна, я пью ее так, что окунаюсь – погружаюсь в нее лицом – и набираюсь в ней сил. Сколько энергии в потоке, который пробившись из низин, бьет из верхушки холма на стометровую высоту? Верю, что много, поэтому и пью до ломоты в зубах. Я знаю, что, навряд ли, вернусь сюда снова. И попал то случайно, просто у дяди Коли заглох мотоцикл, на котором мы ездили в Дальний лес за белыми грибами. Я снова гощу в городе своего детства, находящемся в паре десятков км от этой заброшенной деревеньки, двадцать лет спустя после последнего моего визита, а дядя Коля ушел в лесхоз, чтобы договорится о тракторе – буксире или найти дельного механика, чтобы починить своего железного коня.
Мотоцикл стоит под холмом, я на холме, внизу скучно, я забрался повыше, чтобы лучше видеть это самое небо и увидел родник. Вокруг безмерные дали и тишина, только хлопочут стрижи, пронзая собой небосвод.
Во всей деревне, сохранились относительно целыми, лишь три дома, и те с провалившейся крышей. Остальные жилища превратились в бесформенные кучи из бревен, либо растворились от непогоды – пятидесяти суровых зим и бесконечных осенних дождей, на их месте лишь разросшиеся и смешавшиеся с сорняками огороды или заросли одичавшей малины. Кусты малины – выше человеческого роста, цепкие как колючка, которой принято по периметру оплетать зоны, раскиданные по лесам и болотистым равнинам.
Один из первых местных сидельцев был знатен и именит, он вошел в большую историю как предок последней династии русских царей – императоров. Михаил Никитич Романов. Его привезли в далекий выселок Ныробку суровой зимой, в глухой кибитке, скованного с ног до головы тяжелыми цепями, с железным ошейником, в ножных кандалах. Вся эта амуниция весила пудов тридцать – сорок. Кованное железо, нужно было для того, чтобы удержать волю могучего и спесивого боярина и принизить его гонор, притянуть к земле матушке, чтоб не поднялся более с колен.
По прибытии завшивевшие от долгого пути – три месяца в дороге без бани и должной помывки, исхудавшие стрельцы, стали копать в промерзшей сибирской земле яму, новое жилье для недруга царя Бориса Годунова. Чтобы боярин Романов не замерз враз в этих негостеприимных краях, стрельцами была ставлена небольшая каменная печь, какова отапливалась самим узником. Яма, в которой он сидел, сверху была обложена досками, засыпанными землей как в могиле. Правда вверху сторожа сделали небольшое окошко, через которое узнику подавали дрова и скудную деревенскую пищу: хлеб и воду. Михаил Никитич просидел в яме до самой весны. Недюжил, харкал кровью, исхудал аки костяк, превратился в серую тень. Жалостливые и волелюбивые ныробцы тайно подсылали к его яме своих отчаянных чад – носить узнику молоко, квас и другую крестьянскую снедь. Так было, пока какой-то недобрый человек не донес. И вот, пять человек ныробцев по личному указу царя Бориса Годунова отправлены были в Казань на пытки, где сгинули без следа. Вскоре умер и сам именитый пленник – Михаил Никитич. По слухам, опальный боярин был задушен или заморен голодом своей стражей, тяготившейся жизнью в глухой сибирской деревне. После этой истории в наш край ссылали еще много народу и простого и не менее именитого, чем ныробский узник, были тут соратники Степана Разина, кто-то из декабристов, Борис Мандельштам и многие, многие имена.
Эта земля – ссыльный край, или просто край, который зимой бывает, засыпает по самые маковки, и пройти здесь можно лишь на лыжах, или ждать нетрезвого тракториста.
И все равно, здесь хорошо, особенно летом, когда все вокруг цвет буйно и яро. А тени укрывают тебя, а солнце гладит как мать дитя, ветер приносит сто один запах вкуснее их, ты и не знал. Если закрыть глаза можно ощутить их вкус: луговая ромашка и зверобой – вересковая горечь, хвоя и зеленые шишки – смола; клевер, река – похожи на мед, и еще и еще.
Там внизу, землю обнимает небольшая река, нежным изгибом обвивая пространство от виднокрая до виднокрая, в ней полно серебра, сотня или более того рыбешек размером с ладонь снует у самого дна. За излучиной реки, в зарослях камыша и стелющихся у земли одичалых яблонек застыла тень водяной мельницы. Еще целы гребные колеса. И сложены у входа в мельню истертые гранитные жернова поросшие зеленым мхом. На излучине серые утки с выводками из нескольких десятков птенцов. Так выглядит мир, из которого уходят люди. Я вздыхаю, а, получается, вдохнуть полной грудью этот букет дорого вина, хочу запомнить его вкус, для чего снова закрываю глаза. И, конечно же, засыпаю.
* * *
В моем сне вместо небесной благодати скачет на одной ножке обутой в рваный лапоть рыжий – кудлатый индивид, звероватой наружности и поет хриплым басом:
Я хожу-брожу по своим полям, по своим дорогам, по своим лесам:
Зерно найду – муку мелю,
Щепу найду – очаг кормлю.
Ты за мной не ходи,
На пути не вставай, делу не мешай.
Будешь мешать – зверем обернусь.
Зверем обернусь – Царю поклонюсь.
Ты Царь для лесов-полей, для меня Отец,
Для врагов моих – лютый Зверь.
Выйди ты со мной, покажись, жутким страхом явись.
Чтоб бежал далеко,
Чтобы прятался глубоко.
Чтоб не зарился он на мои поля,
Не облизывался на мои леса,
Чтоб как выйдет он на мою дорогу,
Царь лесной на него наводил тревогу.
Как словом, помыслом, делом мне помешает,
Жуткий страх ему в сердце заглянет – разум скует, ноги сплетет,
В нору загонит, далеко прогонит.
Силой Лесного Царя.
Так будет,
Так есть!
Аминь.
– Сгинь нечистый, – кричу я этому рыжему чуду-юду в своем случайном сне, и просыпаюсь.
* * *
– Кирилл, – кричит дядя Коля. Он стоит под холмом рядом со своим железным конем, а рядом с ним мужичок в грязной спецовке, рыжий, кудлатый, с крохотными бегающими глазками, очень уж похожий на того – из моего сна.
– Сгинь, – шепчу я спускаясь с холма, а рыжий, лишь щербато скалится. Он копается в мотоцикле не более получаса, после того, мотоцикл неожиданно заводится и мы, наконец-то отправляемся домой, дав рыжему сто рублей на опохмел.
По дороге дядя Коля вспоминает, что хотел показать мне два местных источника, один с мертвой водой, а другой с живой, прямо как в старой сказке. Я верю в местные сказки, потому что провел здесь большую часть своего детства.
* * *
На северной окраине села Покча в семи км от города моего детства Чердыни из земли бьют десятки чистейших ключей. Один из них и есть родник «Мертвой воды». По местным преданьям, в XV веке на этом самом месте захватчиками – московитами был пленен и казнен гордый покчинский князь с женой и пятью детьми, и на следующий день свершилось чудо, нет, они не воскресли, прости из земли, пропитавшейся их кровью, забили семь ключиков. Если приглядеться, можно различить все семь плачущих подземных струй и сейчас: две сильных и пять – поменьше, сливающихся в круглое озерцо. Никто не знает и не помнит уже, почему вода в источнике – мертва. На все вопросы местные отвечают одинаково:
– Так старики говорят, им виднее.
Спрыгнув с мотоцикла, я склоняюсь к источнику, чтобы зачерпнуть ладошкой прохладной воды.
– Не пей! – сердито вскрикивает дядя Коля, подойдя со спины, и ударяет по моей руке свой большой, похоже на лопату ладонью.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: