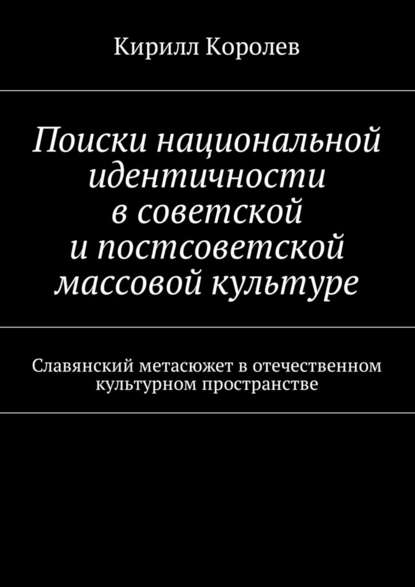По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Поиски национальной идентичности в советской и постсоветской массовой культуре
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– отказ от рационального начала… эксплуатация эмоций и инстинктов подсознательной сферы…
– присвоение себе мнимо компенсирующих функций, имеющих своей конечной целью отвлечение масс от социальной активности…
– создание стандартно-упрошенной «версии жизни»…
– культивирование идолопоклонства…[251 - Кукаркин А. В. Op. cit. С. 171.]»
Перечисляя эти признаки, автор категорически не желает замечать, что большинство из них (если не все) характеризуют и советскую культуру – с тем отличием, что, допустим, «отказ от рационального начала» и «насаждение конформизма» в советской массовой культуре обычно вуалировались «ритуальными идеологическими заклинаниями» и апелляциями к идеалам марксизма-ленинизма, а «культивирование идолопоклонства» в СССР процветало с первых лет советской власти («герои в Советском Союзе всегда призваны выполнять широкую просветительскую задачу[252 - Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. С. 23.]») – и завершилось почти комедийным к своему финалу культом личности Л. И. Брежнева.
Приведенные выше примеры, как представляется, достаточно убедительно доказывают, что позднесоветская культура 1960-х – 1980-х годов была именно массовой культурой, и отрицание этого факта государственной пропагандой и советской наукой не соответствовало опыту повседневности советского человека. Общество потребления, сложившееся в СССР, продолжало существовать вплоть до распада страны (даже печально знаменитый дефицит был в известной степени логическим следствием формирования такого общества) и генерировало на протяжении своей эволюции «типовые» артефакты массовой культуры, будь то массовый внутренний туризм, профессионализация спорта и превращение его из персонального хобби в зрелище или развитие формул массовой литературы. Конечно, эти артефакты имели сугубо отечественную специфику, проистекавшую не только из идеологического контекста, но и из предшествующего культурного опыта, который сталкивался с новыми социально-экономическими реалиями (так, советская массовая литература складывалась в традиционно литературоцентричном обществе, подпадая одновременно под действие правил, если воспользоваться формулировкой А. М. Горького, «мира чистогана», когда книга – не просто литературное произведение и «властительница дум», но и товар, наделенный как символической, так и материальной ценностью, неравной ее стоимости в магазине[253 - Особенно ярко это «наложение ценностей» проявляло себя в «мании коллекционирования» собраний сочинений, когда книги, желательно, в виде многотомных серий, приобретались не ради чтения, но для «заполнения полок» и чтобы продемонстрировать свои «культурность» и достаток; в «джентльменский набор» типичной семьи советских интеллигентов непременно входили как минимум 4—5 собраний сочинений, украшавших книжные полки и серванты, но редко открывавшихся. Также репрезентациями этой тенденции были спекуляция книгами – ближе к концу 1970-х годов и позже у многих книжных магазинов в Москве можно было наблюдать «ярмарки», где, сначала из-под полы, затем открыто, предлагали дефицитные издания наподобие «макулатурных» романов А. Дюма – и возникновение системы книгообмена, которая присваивала литературным текстам баллы в соответствии со спросом на жанры, формулы и с популярностью конкретных авторов: скажем, детективные романы Н. И. Леонова оценивались максимально высоко, и такой роман можно было выменять – если он вдруг появлялся в конкретной точке – на четыре-пять менее востребованных (но все равно пользующихся спросом) книг. (Из личных наблюдений второй половины 1970-х и 1980-х гг.). О литературоцентричности советской культуры см., например, статьи в сборнике «Русская интеллигенция и западный интеллектуализм» (М.: О.Г.И, 1999) и учебное пособие «История русской литературы XX века (20-е – 90-е годы)», подготовленное филологическим факультетом МГУ (М., 1998).]), однако в целом советская массовая культура развивалась в том же направлении, что и культура западная; это обстоятельство, кстати, отмеченное зарубежными советологами, позволило последним выдвинуть тезис о неизбежной конвергенции двух культурных систем – тезис, который А. В. Кукаркин в своей книге горячо оспаривал[254 - «Массовая культура объявляется закономерностью развития всей человеческой культуры. Это делается с целью извращения сущности культуры социалистического общества, которой приписываются пороки буржуазной культуры… Игнорирование буржуазными теоретиками классового содержания и классовой направленности распространяемых художественных ценностей и псевдохудожественных эрзацев приводит к тому, что… „привязывает“ культуру лишь к новым средствам тиражирования… Социалистический идеал гармонически развитой творческой личности прямо противостоит буржуазному идеалу „человека потребляющего“ и „человека играющего“… культура для народа и культура, рождаемая народом, не имеет ничего общего с псевдокультурой, производимой в капиталистическом мире…»; см.: Кукаркин А В. Буржуазная массовая культура. С. 71—72.].
Впрочем, помимо общих признаков, очевидных и имплицитных, и мнимых различий между двумя упомянутыми культурными системами имелось настоящее – и принципиальное – отличие: западная массовая культура представляла собой культуру общества, успешно миновавшего этап национального строительства, тогда как советская массовая культура складывалась в социуме, чрезвычайно заинтересованном в определении и легитимации собственной идентичности – национальной и наднациональной, что предписывалось официальной идеологической доктриной. Государственная опора на «новую старую» идентичность в качестве инструмента стратегии этатизма, по выражению Д. Бранденбергера, реализуемой с середины 1930-х годов, в послевоенный период воплотилась в громких пропагандистских кампаниях первой половины 1950-х, которые подвели итог этой политике; а позднее поиски идентичности переместились в пространство массовой культуры, где приобретали самые неожиданные и причудливые формы.
Cлавянский метасюжет в позднесоветской массовой культуре (1960-е – 1980-е гг.)
В своем дневнике за 1947 год М. М. Пришвин записал: «Мы, русская интеллигенция, наученная нашими великими учителями, духовную культуру предпочитали материальной и ставили ее на высокую ступень. Этим духовно-сектантским отношением к жизнетворчеству мы отличались от европейцев и американцев (…) Теперь же, когда жизнетворчество будет скоро предоставлено всем, то, конечно, поэтические вещи отступят на далекий план сравнительно с обыкновенными жизненными вещами, вроде того, как случилось это со мной при устройстве своего дома (…) При такой материализации общества писатели новые никогда не могут занять высокого положения наших учителей, если только мир не вступит в какие-то новые условия и не создастся новая культура. Она и создастся, только не скоро. Мы же пойдем пока по пути материализации, и бог благословит этот скромный путь нашего, быть может, и всеславянского жизнетворчества[255 - Пришвин М. М. Собрание сочинений в 8 т. М.: Художественная литература, 1982. Т. 8. С. 499.]».
Эта запись видится показательной сразу в нескольких отношениях: здесь и «предчувствие» формирования в СССР общества потребления, и рассуждения о неизбежности появления массовой культуры, и постулирование «особости» духовного пути советского человека, и примечательное упоминание «всеславянского» творческого процесса. Вполне возможно, что к таким формулировкам Пришвина подтолкнула пропагандистская кампания конца 1940-х годов (так называемый период «ждановщины»), когда возобновилась идеологическая борьба с «буржуазными ценностями», существенно ослабевшая в годы Великой Отечественной войны. В постановлении ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» от 11 августа 1946 года отдельным литераторам (конкретно А. А. Ахматовой и М. М. Зощенко) поставили на вид «низкопоклонство по отношению ко всему иностранному», а в 1947—1948 годах кампания против «иностранного» развернулась в полной мере: можно вспомнить и постановление ЦК об опере В. Мурадели «Великая дружба», которую обвиняли в «про-западном» формализме и в изображении «вражды кавказских народов… с русским народом», и преследование «вейсманистов-морганистов» как эпигонов западных генетиков[256 - Подробнее см.: Костырченко Г. В. Сталин против «космополитов». Власть и еврейская интеллигенция в СССР. М.: РОССПЭН, Фонд первого президента России Б. Н. Ельцина, 2010. С. 117—118.]. «Антизападный» пафос этой кампании очевидно определялся политическими разногласиями с недавними союзниками по антигитлеровской коалиции и с «буржуазным Западом» как таковым; применительно же к советской культуре следствием кампании стало усиление культурного изоляционизма и широкое пропагандированные «советского патриотизма», исключающего «преклонение перед заграничной культурой»[257 - Симонов К. М. Глазами человека моего поколения. М.: Правда, 1989. С. 142.] и подразумевавшего этатистскую апелляцию к великодержавному образу славного прошлого. (При этом первоначально подчеркивалось, что «мы не те русские, какими были до 1917 года, и Русь у нас уже не та… мы изменились и выросли вместе с теми величайшими преобразованиями, которые в корне изменили облик нашей страны[258 - Жданов А. А. Доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Обобщенная стенограмма докладов т. Жданова на собрании партийного актива и на собрании писателей в Ленинграде. М.: ОГИЗ, 1946. С. 17. О постановлении ЦК на основе этого доклада см.: Бабиченко Д. Л. Писатели и цензоры. Советская литература 1940-х годов под политическим контролем ЦК. М.: Россия молодая, 1994.]». Но, как показал Д. Бранденбергер, «данную позицию оказалось очень сложно отстоять, и вскоре она была оставлена[259 - Бранденбергер Д. Национал-большевизм. С. 224.]», что подтверждается, к примеру, массовым празднованием 800-летия основания Москвы, когда образ славного прошлого – еще «той», дореволюционной Руси – получил дополнительную легитимацию в форме установки в центре столицы памятника князю Юрию Долгорукому.)
Дальнейшее развитие «борьба с иностранщиной» получила в кампании против «космополитов», формальной датой начала которой принято считать 28 января 1949 года, когда в газете «Правда» была опубликована статья «Об одной антипатриотической группе театральных критиков»: в этой статье группу критиков обвинили в «безродном космополитизме» и антипатриотических настроениях. Эта кампания очень быстро приобрела выраженный антисемитский характер, привела к вспышке бытовой юдофобии и затронула все социальные страты советского общества.
Для отечественной науки и массового искусства данная кампания стала своего рода сигналом: государственный патриотизм санкционирует обращение к национальным моделям и образцам и противопоставление этих образцов и моделей «западным» (в широком смысле). Более того, этот сигнал был воспринят и коллективным знанием, которое усваивало и распространяло националистические идеи. Как отмечает Д. Бранденбергер, преобладанию в обществе этих идей «способствовали как широкое использование образов и героев русской истории и мифологии в школьном образовании и во всей массовой культуре, так и публичные высказывания партийной номенклатуры[260 - Бранденбергер Д. Национал-большевизм. С. 273.]». Необходимо отметить, что руссоцентризм идеологии и пропаганды не предусматривал особого русского государственного или национального строительства, государственная политика не подразумевала институциональной, политической и культурной автономии для русской нации; однако в коллективном знании и в массовой культуре утвердилась приоритетность всего русского по сравнению с достижениями других народов СССР (см. показательные цитаты из писем и высказываний советских граждан в работе Д. Бранденбергера, главы 13—14). Данное обстоятельство позволило исследователям сделать вывод о формировании в послевоенные годы у русских чувства национальной идентичности: «Усилия партийного руководства заручиться доверием народных масс с помощью избранных русских мифов, легенд и образов привели к тому, чего сталинские идеологи никак не ожидали, – к развитию у русских национального самосознания, абсолютно независимого от общепризнанных социалистических ценностей[261 - Ibid. С. 297.]». Этот конструктивистский тезис представляется довольно спорным, особенно с учетом того, что публицистическая дискуссия относительно русской национальной идентичности продолжается по сей день[262 - Различные аспекты этой дискуссии освещаются, в частности, в следующих работах.: Кожевников В. П. Концепция русской культуры. М.: Гуманитарный институт, 1999; Релятивистская теория нации: Новый подход к исследованию этнополитической динамики России. М.: РНИСиНП, 1998; Дробижева Л. M. Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской России. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 2003. В публичном пространстве сугубо националистическую – культурно-националистическую, избегающую шовинизма – точку зрения на русскую идентичность выражает, в частности, Е. С. Холмогоров; см., например, сборник его статей «Русский националист» (М.: Европа, 2006) и материалы сайта «Русский обозреватель» (http://www.rus-obr.ru/), главным редактором которого является Холмогоров.]. Тем не менее, национальное самосознание, безусловно, формировалось – и находило выражение в культуре, обеспечивая популяризацию националистического мировоззрения, наделение последнего символической ценностью, и, как следствие, тиражирование «русской темы» в различных отраслях культурного производства. Что касается славянского метасюжета, обращение к условно-древнерусской «старине» проявилось, к примеру, в художественном фильме «Илья Муромец» А. Л. Птушко (1956), в публикации открыток и иллюстрированных альбомов с репродукциями картин И. Я. Билибина и В. М. Васнецова, в издании в серии «Литературные памятники» в 1950 году таких текстов как «Повесть временных лет» и «Слово о полку Игореве» (тираж в каждом случае 10 000 экз.); также в эти годы увидели свет повесть «Юность полководца» (об Александре Невском, 1952) и завершающий роман (1955) «монгольской» трилогии В. Яна (о трактовке славянского метасюжета в советском историческом романе см. ниже).
Идеологическая неопределенность после смерти И. В. Сталина и особенно после разоблачения «культа личности» на XX съезде КПСС в 1956 году способствовала кратковременной деактулизации «национального вопроса» в пропаганде и массовой культуре (настал короткий период «оголтелого западничества», по выражению П. Вайля и А. Гениса), однако уже в конце 1950-х годов руководство страны вновь заговорило о ценностях национальной, то есть русской традиции. Отмечу, кстати, что новый виток «борьбы с космополитизмом» и за национальную традицию в конце 1950-х – начале 1960-х годов (кампании против современного искусства) сопровождался возобновлением гонений на православную церковь[263 - Об этих гонениях см.: Шкаровский М. В. Русская Православная церковь при Сталине и Хрущеве. М.: Изд-во Крутицкого подворья; Общество любителей церковной истории, 2005. Отмечу здесь, что все-таки основной мишенью в данном случае была не РПЦ, а неофициальные религиозные практики и группы, а также «сектанты». Подробнее об это см.: Митрохин Л. Н. Баптизм: история и современность (философско-социологические очерки). СПб.: РХГИ, 1997. С. 42—62; Никольская Т. К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905—1991 годах. СПб.: Изд-во Европейского ун-та, 2009; Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в XX веке. М.: Республика, 1995.], которая для части советской интеллигенции ассоциировалась именно с ценностями национальной традиции. Этот и подобные ему факты позволили И. Брудному сделать вывод о том, что «хрущевское неуклюжее обращение с интеллигенцией (автор видит в интеллигенции – в широком смысле – олицетворение советской массовой культуры. – К. К.) отпугнуло некоторых интеллектуалов, заставив отойти на националистические позиции и образовать некое неопределенное движение»[264 - Brudny Y. Reinventing Russia. Russian Nationalism and the Soviet State, 1953—1991. Cambridge, MA; London: Harvard University Press, 1998. P. 59.]. Этот вывод вряд ли можно назвать абсолютно корректным, тем более что, по И. Брудному, весь русский культурный национализм позднего советского периода сводился к творчеству писателей-«деревенщиков», однако среди совокупности причин, способствовавших укреплению позиций русского национализма в советской массовой культуре была, вероятно, и эта. Свидетель и непосредственный участник возрождения националистического дискурса в 1960-х годах А. Л. Янов вспоминал: «…история словно бы оживала перед нашими глазами. Из-под глыб замшелой идеологии вдруг стали пробиваться свежие удивительные голоса, толковавшие о необходимости национального возрождения, о возвращении к национальным корням и спасении России… В домах интеллигентов, в клубах и университетах появлялись люди самого разного возраста – и старики, и юноши, – призывавшие вернуться „домой“, к „святыням национального духа“, торжественно декламировавшие о „земле“ и „почве“, – словно ожили славянофилы 1830-х гг.»[265 - Янов А. Л. Русская идея и 2000 год. // Нева. 1990. №9. С. 156.].
Советский народ, «новая историческая общность», о завершении формирования которой объявила в 1961 году новая Программа КПСС, как будто представлял социуму новую идентичность с общими ценностями. Но, как и в 1930-х годах, быстро выяснилось, что общая «наднациональная» идентичность и общая перспектива – не более чем миф, что символическое объединение, конструирование нации невозможны без ретроспекции, без обращения к славному прошлому; отличие от 1930-х годов заключалось в том, что ранее признание «старшинства» русского народа в «семье народов СССР» служило целям государственного строительства, сделалось элементом государственной политики, теперь же последовательная «русификация» идеологического пространства осуществлялась и происходила во многом стихийно, непреднамеренно[266 - Опираясь на концепции П. Бурдье и Н. Элиаса, Н. Н. Козлова подчеркивает именно непреднамеренный характер «социального изобретения» в советском обществе; такое изобретение есть «результат давления условий и социальных обусловленностей, воплощенный в самом сердце социального агента… Попадая в новые обстоятельства и меняя их, люди несут в себе черты как своей личной и семейной истории, так и истории тех слоев, страт и общества в целом, в которых они родились… Это искусство изобретения, позволяющее производить бесконечное число практик… взаимозависимость индивидуального и социального в процессе социального изменения». См.: Козлова Н. Н. Советские люди. Сцены из истории. М.: Европа, 2005. С. 73—74.], в контексте массовой культуры, усвоившей и актуализировавшей руссоцентристские модели культуры довоенной, как бы «исподволь… за рамками… вненациональной смуты 60-х[267 - Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. С. 237.]». По воспоминаниям А. Л. Янова, «интеллигенция вдруг устремилась проводить отпуска в деревнях, у могил далеких предков – вместо модных еще недавно Крыма, Кавказа и Прибалтики. Молодежь бродила по вымирающим деревням, собирая иконы, и очень скоро не осталось почти ни одного интеллигентного дома в Москве, не украшенного символами православия. Писатель Владимир Солоухин появился в Доме литераторов с перстнем, на котором был изображен расстрелянный император Николай Второй. На черном рынке возник бешеный спрос на книги „контрреволюционеров“ и „белогвардейцев“, умерших в эмиграции»[268 - Янов А. Л. Op. cit. С. 156. См. также: Терновский Е. С. Этос московской интеллигенции 1960-х. Из разговоров Андрея Лебедева с Евгением Терновским // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. 2009. №3 (65) (май-июнь). С. 89—103; Безбородое А. Б. Феномен академического диссидентства в СССР: Учебное пособие по спецкурсу. М.: РГГУ, 1998; Кара-Мурза С. Г. Интеллигенция на пепелище родной страны // Наш современник. 1997. №1. С. 199—255, №2. С. 162—208; Зорин А. Л. Уваровская триада и самосознание русского интеллигента // Русская интеллигенция и западный интеллектуализм. История и типология. М.: О.Г.И., 1999. С. 34—44.].
Это «вдруг», подмеченное А. Л. Яновым, фиксируют и другие исследователи поздней советской культуры; так, П. Вайль и А. Генис видят в нем «естественную реакцию на кризис либеральной [„оттепельной“ – К. К.] идеологии», А. Юрчак рассуждает о советской культуре как о «пространстве вненаходимости», где – как сознательно, в мобилизационно-идеологическом дискурсе, так и интуитивно – велось конструирование идентичности в оппозиции воображаемому Западу, а Б. Ю. Кагарлицкий, цитируя Ленина, говорит о сосуществовании в позднесоветский период двух культур – официальной и «общей», спонтанно складывающейся «снизу»[269 - Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. С. 237; Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: НЛО, 2014. С. 305 и далее; Кагарлицкий Б. Ю. Загадка советского сфинкса // СССР: Жизнь после смерти. М.: Изд-во ВШЭ, 2012. С. 15.]. (Отмечу здесь – чтобы подробнее вернуться к этому фактору в 3-й части книги – известную схожесть данного «вдруг» и того резкого всплеска интереса к отечественной культурной продукции и «родным» темам и фактуре, который случился в середине 1990-х годов: обстоятельства и итоги обеих трансформаций во многом совпадают, и подобная цикличность культурной модели позволяет спрогнозировать продолжительное бытование, а затем неизбежное «выпадение» славянского метасюжета из пространства актуальных смыслов современной массовой культуры.)
В качестве «рубежного» момента эволюции русского культурного национализма в позднесоветский период П. Вайль и А. Генис выделяют 1965 год, когда было создано Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) и широко праздновалось 70-летие со дня рождения С. А. Есенина. «Интерес к русским древностям эпизодически возникал и ранее… [Но в 1965 г.] на обложках популярных журналов появились монастыри; в газетах – статьи о пряниках и прялках… в стихах замелькали находки из словаря Даля… кружным путем через парижский Дом Диора возвратились женские сапоги и шубы; в ресторанах вместо профитролей подавали расстегаи…[270 - Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. С. 237.]» Да, год 1965 действительно можно назвать переломным – хотя бы потому, что в этом году появилась статья, в определенной мере программная для «неопочвенников»; речь о статье «Берегите святыню нашу!» в журнале «Молодая гвардия» за подписями скульптора С. Т. Коненкова, художника П. Д. Корина и писателя Л. М. Леонова – трех корифеев советской культуры. В этой статье необходимость оберегать «вещественные реликвии былого народного величия» мотивировалась тем, что «вокруг этих камней кристаллизуется все национальное самосознание»[271 - См. книжное издание: Коненков С. Т., Корин П. Д., Леонов Л. М. Берегите святыню нашу! // За алтари и очаги. М.: Советская Россия, 1989. С. 11—15.]. Но все же, как представляется, трансформационные процессы «национализации» культуры начались все-таки несколько ранее. Например, имевшая широкий общественный резонанс научная полемика об историзме былин, с участием В. Я. Проппа, Б. Н. Путилова и Б. А. Рыбакова, стартовала еще в середине 1950-х годов и стала публичной в начале 1960-х[272 - О воззрениях участников полемики и предмете дискуссии см: Пропп В. Я. Русский героический эпос. Л.: Госхудиздат, 1955; он же: Об историзме русского эпоса (Ответ академику Рыбакову) // Русская литература. 1962. №2. С. 87—91; он же: Об историзме русского фольклора и методах его изучения // Ученые записки ЛГУ. 1968. №339. Вып. 72. С. 5—25; он же: Фольклор и действительность // Пропп В. Я. Фольклор и действительность: Избр. статьи. М.: Наука, 1976. С. 83—115; Путилов Б. Н. Концепция, с которой нельзя согласиться // Вопросы литературы. 1962. №11. С. 98—111; он же: Русский историко-песенный фольклор XIII – XVI веков. М.: Изд-во АН СССР, 1960; Рыбаков Б. А. Исторический взгляд на русские былины // История СССР. 1961. №5. С. 141—166, №6. С. 80—96; он же: Древняя Русь. Сказания, былины, летописи. М.: Изд-во АН СССР, 1963. См. также: Уорнер Э. Э. Владимир Яковлевич Пропп и русская фольклористика. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005; Козловский С. В. История и старина: мировосприятие, социальная практика, мотивация действующих лиц. Ижевск: ИжГСХА, 2009; Селиванов Ф. М. Поэтика былин в историко-филологическом освещении: композиция, художественный мир, особенности языка. М.: Кругъ, 2009.]. Эта полемика относительно вопроса о степени исторической достоверности былин как источников сведений по истории Руси (что есть былина – описание «исторического факта» или отражение «вековых идеалов народа»? ) получила в дальнейшем опосредованное развитие в советском историческом романе и привлекла, наряду с кинематографом («Илья Муромец» и др.), внимание массового читателя к другим образцам древнерусского эпоса помимо «Слова о полку Игореве». Первые произведения «деревенской прозы», в определенной мере возрождавшей идеологию почвенничества и тем самым побуждавшей социум задуматься о признаках «русскости», тоже стали публиковаться с середины 1950-х годов. «Велесова книга» как авторитетный для коллекивного знания свод «правдивых» сведений о русской мифологии появилась в самиздате в начале 1960-х. Что касается ВООПиК, один из наиболее активных членов общества, литературовед В. В. Кожинов уже в 1950-х вместе с единомышленниками-«славянофилами» спасал от сноса храм Симеона Столпника на Поварской улице в Москве[273 - Дикман Э. Умом Россию… // Время Кожинова. Портал «Литературная Россия». Вып. 26. № июля 2009 года. URL% http://www.litrossia.ru/2009/26/04301.html. Дата доступа 30 августа 2017 г.], а позднее вспоминал: «В 1963 году он [О. В. Волков], Петр Палиевский, Дмитрий Жуков, я и еще несколько человек решили восстановить Общество охраны памятников культуры (кстати, сделали это)»[274 - Кожинов В. В. Сеятель // Вадим Кожинов в интервью, беседах, диалогах и воспоминаниях современников. М.: Алгоритм, 2005. С. 11.]. Но в целом, так или иначе, «русское возрождение», в формулировке одного из его лидеров С. Ю. Куняева, действительно заявило о себе – достаточно громко – именно в середине 1960-х годов.
При этом, как отмечает большинство исследователей[275 - См.: Митрохин Н. А. Русская партия: движение русских националистов в СССР, 1953—1985 годы. М.: НЛО, 2003; Зезина М. Р. Советская художественная интеллигенция и власть в 1950-е – 1960-е годы. М.: Диалог-МГУ, 1999; Лакер У. Черная сотня. М.: Текст, 1994; Кожинов В. В. Правда «Черной сотни». М.: Алгоритм, Эксмо, 2006. (Критика взглядов У. Лакера, с. 303—306); Duncan P. Russian Messianism. Third Rome, Revolution, Communism and After. London: Routledge, 2001; Данлоп Д. Новый русский национализм. М.: Прогресс, 1986; Эггелинг В. Политика и культура при Хрущеве и Брежневе, 1953—1970. М.: АИРО-XX, 1999; Верховский А. М. (сост.). Национализм и ксенофобия в российском обществе. М.: Панорама, 1998 и указанную работу И. Брудного.], «русское движение» в рамках советского социума ни в коей мере не было однородным. Среди его представителей и аморфная «национально-православная» (термин Д. Данлопа) интеллигенция, и «возрожденцы» (православные диссиденты), и национал-большевики (русские шовинисты), и сторонники восстановления монархии, и защитники традиционной (крестьянской) культуры, и антисемиты, и неоязычники… Вдобавок все эти группы внутри «русского движения» не имели четкого разделения, так что один и тот же русский шовинист, к примеру, мог оказаться одновременно православным антимонархистом, но поборником традиционной культуры – плюс «официальным» коммунистом, ревностно и публично отстаивающим на словах коммунистические идеалы[276 - О советском «двоемыслии» как характерной особенности советского социального человека см.: Левада Ю. А. Простой советский человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х. М.: Мировой океан, 1993; Дубин Б. В. Советский и постсоветский исторический роман: герои, поэтика, социальные функции // Феномен прошлого. М.: ИД ГУ ВШЭ, 2005. С. 252—291; Макаренко В. П. Проблема двоемыслия и природа евро-российского интеллектуализма // Политическая концептология. 2010. №4. С. 4—27; Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось.].
Подобное разнообразие самоидентификаций, например, было свойственно группе литераторов, которая в публицистике, критике и позднее в академических исследованиях получила наименование «деревенщиков». Все авторы, которых причисляли и которые сами себя причисляли к направлению «деревенской прозы», являлись убежденными сторонниками «русской традиции», но в чем именно заключается эта традиция, едва ли не каждый из них формулировал по-своему. Так, для упомянутого В. А. Солоухина – того самого, который стал носить перстень с портретом Николая II[277 - На партийном собрании Московской писательской организации 16 января 1968 г. Солоухин так оправдывал эту «пощечину общественному вкусу»: «Хочу сказать, что никакой политической подоплеки в ношении моего перстня нет. Хочу сказать, что и бабка Василиса, и моя мать Степанида Ивановна, передавая эту монету друг дружке, меньше всего думали, что на ней изображено. Она для них была мерой тяжелого крестьянского труда, концентрацией его. В пятиграммовой монете, оказавшейся в крестьянской избе, спрессованы тонны пота». Солоухин вспоминал, что парторг, не добившись публичного снятия перстня, на следующий день в личной беседе сказал, мол, перстень носить можно, но следует подумать над тем, чей профиль запечатлен на партбилете. См.: Перстень и партбилет. Сказка о том, как один монархист пятьсот коммунистов обманул. Публикация Д. Зубарева // Новое литературное обозрение. 1997. №23. С. 169—173.] – эта традиция выражалась в показной приверженности «иконе, церкви, религии», как писал «убежденный русский националист» Л. И. Бородин: «…при должном понимании [это] недурная и практически безвредная игра интеллектуала. Надо только согласиться с правилами игры, и тогда все будет смотреться бескриминально. Отдавая должное В. Солоухину как мастеру слова… до конца его дней ни его православность, ни его монархизм я всерьез не принимал…[278 - Бородин Л. И. Без выбора // Собрание сочинений. В 7 т. М.: Изд-во журнала «Москва», 2013. Т. 6. С. 192—193.]» Для других «деревенщиков» традиция воплощалась в сохранении русской природы и в активной борьбе за экологию (С. П. Залыгин, В. Г. Распутин; надо отметить, что «монархист» Солоухин также участвовал в этой борьбе), в конструировании образа «вымирающей (русской) старины» (В. И. Белов, В. М. Шукшин), в антизападничестве и антисемитизме (В. П. Астафьев и др.)[279 - О «деревенской прозе» и взглядах авторов см.: Большакова А. Ю. Нация и менталитет: Феномен «деревенской прозы» XX века. М.: Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации Правительства Москвы, 2000; Соколова Л. В. Духовно-нравственные искания писателей-традиционалистов 2-й половины XX в.: В. Шукшин, В. Распутин, В. Белов, В. Астафьев. Диссер. д-ра филол, наук. СПб., 2005; Бондаренко В. Г. Серебряный век простонародья. Книга статей о стержневой русской словесности, об окопной правде, о деревенской прозе и тихой лирике. М., 2004. Отдельная благодарность А. И. Разуваловой за возможность ознакомиться с рукописью ее книги «Писатели-„деревенщики“ и консервативная идеология в советской литературе „долгих 1970-х“», которая была опубликована в издательстве «НЛО» в 2015 г.]. Иной, близкой к шовинистической, позиции придерживались члены подпольной антикоммунистической организации «Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа» (ВСХСОН), ратовавшей за «третий путь» (национально-христианский) развития страны[280 - О деятельности и разгроме ВСХСОН см.: ВСХСОН: Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа. Программа. Суд. В тюрьмах и лагерях. Париж: YMCA-press, 1975. См. также воспоминания о «русском движении» 1960-х – 1970-х гг.: Янов А. Л. Воспоминания. Цикл статей. Проект Института современной России. URL: http://imrussia.org/ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2. Дата доступа 30 августа 2017 г.]; своя точка зрения на традицию была у «державников» (А. И. Солженицын[281 - В поэме «Струфиан» Д. С. Самойлова «державный умострой» Солженицына описывается следующим образом: «На нас, как ядовитый чад, Европа насылает ересь. И на Руси не станет через Сто лет следа от наших чад. Не будет девы с коромыслом, Не будет молодца с сохой. Восторжествует дух сухой, Несовместимый с русским смыслом. И эта духа сухота Убьет все промыслы, ремесла; Во всей России не найдется Ни колеса, ни хомута. Дабы России не остаться Без колеса и хомута, Необходимо наше царство В глухие увести места – В Сибирь, на Север, на Восток, Оставив за Москвой заслоны, Как некогда увел пророк Народ в предел незаселенный…». См.: Самойлов Д. С. Поэмы. М.: Время, 2005. С. 112. О заочной полемике Д. С. Самойлова с А. И. Солженицыным см.: Сарнов Б. М. Феномен Солженицына. М.: Эксмо, 2012.]) и у той «державно-националистической» группы интеллектуалов, которые использовали в качестве «трибуны» журналы «Октябрь», «Молодая гвардия» и «Наш современник»[282 - О «знаковом» для позднесоветского периода противостоянии этих журналов и либерального «Нового мира» при главном редакторе А. Т. Твардовском см.: Семанов С. Н. Русское возрождение: борьба продолжается. М.: Самотека, 2009; Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура. М.: Институт русской цивилизации, 2012; Солженицын А. И. Бодался теленок с дубом: Очерки литературной жизни. М.: Согласие, 1996.]. Представитель последних, будущий главный редактор «Нашего современника» С. Ю. Куняев писал, характеризуя эволюцию воззрений группы, что «официально правыми считались… Егор Исаев, Анатолий Иванов, Всеволод Кочетов, Анатолий Софронов, Николай Грибачев, Михаил Алексеев… С годами к лагерю официально правых подтянулись… Валентин Сорокин, Владимир Чивилихин… Официально правые были нам ближе – все-таки свои, русские! Но сближаться с ними окончательно означало потерять независимость своих оценок… Кто мы? Юрий Селезнев, Вадим Кожинов, Анатолий Передреев, Петр Палиевский, Сергей Семанов, Анатолий Ланщиков… Объективный ход событий все больше и больше сближал нас с Беловым, Распутиным и Юрием Кузнецовым…[283 - Куняев С. Ю. Поэзия. Судьба. Россия. В 2 т. М.: Наш современник, 2001. Т. 1. С. 300—301.]» В. В. Кожинов добавлял, что «был такой круг людей, которые просто боготворили генерала Корнилова или Колчака… Поскольку революция была отрицанием и проклятием всего прошлого России, совершенно естественным было пройти через ее отрицание…[284 - Кожинов В. В. Сеятель. С. 12.]»; очевидный антикоммунизм этого кожиновского высказывания также одновременно подчеркнуто руссоцентричен – и тоже отражает мнения части «русского движения».
В целом, повторюсь, движение «неопочвенников», или «неоконсерваторов», было чрезвычайно аморфным, но принципиально важным является то обстоятельство, что эти группы, течения и идеи оказывали опосредованное искусством воздействие на коллективное знание советских людей и на советскую массовую культуру, формируя комплекс масс-культурных стереотипов, которые будут постепенно актуализированы в 1980-х годах, а затем, после короткого «идеологического вакуума», прочно обоснуются с середины 1990-х годов в современной отечественной массовой культуре.
Своеобразной формой русизма служило чтение (и почитание) классики. По замечанию П. Вайля и А. Гениса, «для самых образованных существовал философский самиздат: славянофилы (Киреевский, К. Аксаков), Бердяев, Лосский… Для основной массы интеллигенции открылся Достоевский – для многих впервые, потому что с 30-го по 56-й год его собрания сочинений не издавались… Общество, откачнувшееся от интернационального к национальному, прочло его бережно и выборочно… Публика попроще вполне довольствовалась Есениным… Есенин более других потрафлял массовому руссизму, сочетая в себе и в своих стихах огромный поэтический талант, стихийную религиозность… и размашистую удаль… Интернациональные хлопоты заслонила забота о родной природе (слово из нового культурного кода с корнем «род»)…»[285 - Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. С. 238.] (Еще одной связанной с классикой разновидностью русизма было издание массовыми тиражами произведений древнерусской литературы – во многом усилиями Д. С. Лихачева, благодаря чему последний как популяризатор этой литературы, автор предисловий, комментариев и т. д. оказался в глазах западных советологов лидером русского национализма позднесоветского периода; по воспоминаниям известного исследователя древнерусской книжности А. Г. Боброва, в 1996 г. на конференции славистов в Сиэттле прозвучало несколько докладов по данной теме[286 - Сообщено А. Г. Бобровым. О «националисте» Лихачеве в разных контекстах рассуждает в своей работе «Reinventing Russia» И. Брудный (см. с. 140—180), о том же пишет В. Зубок (Vladislav Zubok. Zhivago’s Children: The Last Russian Intelligentsia. Cambridge: Harvard University Press, 2009); в американской славистике также широко цитируется статья У. Лакера «Русский национализм», в которой Д. С. Лихачев назван «высшим моральным авторитетом русского национализма… взгляды которого разделяет большинство образованных русских либералов». См.: Laqueur W. Russian Nationalism // Foreign Affairs. Winter 1992 – 1993. P. 102—116.].) Не оставалась в стороне и живопись: « [Герои] Ильи Глазунова (одного из основателей ВООПиК. – К. К.) … были голубоглазы и русы, одеты в добротное и незаимствованное, пили отнюдь не из фужеров, а из братин[287 - Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. С. 239.]».
Также не будем забывать о государственной пропаганде, которая продолжала воспроизводить образы и сюжеты героического исторического и псевдоисторического прошлого, тем самым подчеркивая неперерывность национального развития от славного прошлого к не менее (если не более) славному настоящему. Эти образы и сюжеты, в том числе древнерусские, присутствовали в школьных учебниках, тиражировались на различных носителях, как типовых (книги, плакаты, альбомы репродукций, открытки, почтовые марки[288 - Согласно каталогу почтовых марок СССР, с 1961 по 1988 год славянский метасюжет регулярно воспроизводился на марках, конвертах и почтовых открытках: серия «Русские сказки и былины», репродукции картин В. М. Васнецова, И. Я. Билибина, П. Д. Корина («Александр Невский») и других художников, 2 серии марок «Искусство Палеха» и т. д. Общий тираж только «славянских» марок за указанный период составил около 100 млн экземпляров; См.: Почтовые марки России и СССР (1857 – 1991 гг.) Специализированный каталог. Т. 3 (СССР, 1961 – 1991 гг.) Составитель / редактор Соловьев В. Ю. М: Москва-издат, 2009.], палехская миниатюра и хохломская роспись, телевизионные передачи и кино), так и на довольно неожиданных (лицевые стороны конфетных коробок, обертки конфет и шоколада, конверты грампластинок, оформленные с использованием древнерусского орнамента, и т. п.). С известными оговорками можно утверждать, что с конца 1960-х годов советские школьники в РСФСР воспитывались в пространстве культурно-националистической символики – чему содействовало и, среди прочего, появление в 1971 году официального туристического маршрута по «русской старине», то есть по старинным городам «Золотого кольца»; этим маршрутом возили не только иностранные группы, но и советских школьников (а также более взрослых советских организованных туристов): отчасти именно это воспитание, на наш взгляд, подготовило позитивную рецепцию первых опытов славянской фэнтези в середине 1990-х годов: славянский метасюжет был востребован гомогенной культурной средой, но уже в новых формах выражения.
Государственная политика негласного поощрения «традиционных ценностей» нашла отклик и в отечественной науке 1960-х – 1980-х годов: значительно возросло число археологических и фольклорных экспедиций[289 - См.: Клейн Л. С. Феномен советской археологии. СПб.: ФАРН, 1993; он же: Парадигмы и периоды в истории отечественной археологии // Санкт-Петербург и отечественная археология. Историографические очерки. СПб.: СПбГУ, 1995. С. 173—183.], а санкционированный партийным руководством научный интерес к древнерусской истории и культуре, фактически своего рода социальный заказ, привел к тому, что к этой теме обратились и те исследователи, которые увидели возможность применить в работе новые, не получившие официального признания методики научного анализа к материалу, заведомо «проходимому» через цензуру. Так, в частности, В. В. Иванов и В. Н. Топоров еще в 1965 году опубликовали монографию «Славянские языковые моделирующие семиотические системы: Древний период», а девять лет спустя – «Исследования в области славянских древностей: Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов». Обе работы были структуралистскими по духу и содержанию, однако предмет исследования позволял пренебречь такой «вольностью».
Разумеется, было бы некорректно не отметить, что одновременно «славянские исследования» в условиях продолжавшихся гонений на иностранное многими учеными рассматривались и как возможность карьерного роста, что, к примеру, выразилось «в очередном всплеске былиноведческих публикаций»[290 - Богданов К. А. Что дальше? // Vox Populi. Фольклорные жанры советской культуры. С. 249.]. Для широкой публики апофеозом научных изысканий в области «славянских древностей» стали две поздние монографии Б. А. Рыбакова – «Язычество древних славян» (1981) и «Язычество Древней Руси» (1987), обе на основе статей, публиковавшихся еще с начала 1960-х годов. Для этих работ характерен, как замечает Л. С. Клейн, воинствующий патриотизм: « [Рыбаков] был не просто патриотом, а несомненно, русским националистом… – он был склонен пылко преувеличивать истинные успехи и преимущества русского народа во всем, ставя его выше всех соседних. Он готов был готов очищать и украшать его историю[291 - Клейн Л. С. Воскрешение Перуна. СПб.: Евразия, 2004. С. 70.]». Опираясь исключительно на отечественный археологический материал и на представление об исторической достоверности фольклора, Б. А. Рыбаков выдвинул гипотезу о «хронологической иерархии» славянского язычества (берегини – Род и рожаницы – Перун и другие боги, на основании средневекового текста игумена Даниила[292 - Такова гипотеза Б. А. Рыбакова; на самом деле об этой генеалогии божеств говорится в компилятивном «Слове святого Григория изобретено в толцех». См.: Буланина Т. В. Слово святого Григория изобретено в толцех // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1 (XI – первая половина XIV в.). Отв. ред. Д. С. Лихачев. Л.: Наука, 1987. С.437—438.]), построил любительскую лингвистическую теорию значения имен славянских божеств (например, имя «Макошь» толкуется как «Мать счастливого жребия»), со ссылкой на Геродота и исследования трипольской культуры «доказал» автохтонность славян (которые якобы проживали на территории Украины с середины II тысячелетия до н. э.) и т. д. «Такая длинная, глубокая родословная славян» позволила «включать множество разновременных материалов в историю славянского язычества и устанавливать головокружительные соответствия, перекличку через сотни поколений, через многие тысячелетия[293 - Клейн Л. С. Воскрешение Перуна… С. 97. По замечанию современного исследователя, «еще до Б. А. Рыбакова…» восходящей к «Слову» «семантической периодизации» славянского язычества всецело доверился академик Б. М. Греков, обосновывая в том числе и этим свою концепцию феодализма в Киевской Руси. См.: Фроянов И. Я. Загадка крещения Руси. М.: Эксмо, 2007; Лушников А. А. К вопросу о методологии изучения славянского язычества в советской историографии // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. №6. С. 12—13.]».
Обе эти книги сразу после публикации стали библиографической редкостью и до сих пор являются основными источниками информации по «древнерусской жизни» и славянскому языческому мировоззрению для поклонников «родной старины», не принадлежащих ни к научным кругам, ни к родноверским сообществам (о родноверии см. далее); публикации в СМИ и рекомендации на сетевых форумах отсылают всех интересующихся данной темой именно к монографиям академика Рыбакова. Более того, на них ссылаются и некоторые авторы славянского фэнтези – например, Е. А. Дворецкая и М. В. Семенова[294 - Ср.: «…я буквально с раннего детства испытывала жгучий интересе к истории вообще и к Древней Руси в частности. О славянском язычестве тогда материалов было мало, но фундаментальные труды академика Рыбакова, известные всем интересующимся данной темой, я начала читать еще лет в двенадцать. И все это так живо отозвалось в моем воображении, что в возрасте двадцати лет я переключилась на писание исторических романов. Мой вклад в любимый жанр поначалу составили пять романов, все об эпохе крещения Руси» (из автобиографии Е. А. Дворецкой на сайте автора: http://www.zaveta.ru). См. также форум по книгам Марии Семеновой: http://litforum.ru/lofiversion/index.php/t876-50.html (http://litforum.ru/lofiversion/index.php/t876-50.html). Дата доступа 30 августа 2017 г.]. Представляется, что нынешний авторитет этих работ среди читателей и почитателей славянской фэнтези во многом объясняется а) малым количеством и малой доступностью других публикаций на тему славянского язычества в указанный период и б) инерционностью коллективного знания, благодаря которой культурные стереотипы предшествующего поколения усваиваются следующим поколением; иначе объяснить популярность работ Б. А. Рыбакова после издания в минувшие два десятилетия множества исследований по славянскому язычеству, прежде не печатавшихся по цензурным соображениям, вряд ли возможно.
Что касается сферы культурного производства в узком смысле, то есть массового искусства, вторая половина 1960-х, 1970-е и 1980-е годы стали для славянского метасюжета настоящим золотым веком: именно в эти годы данный метасюжет (заново) утвердился в отечественном массовом искусстве и, что немаловажно, приобрел устойчивый спрос. Репрезентации славянского метасюжета в советской массовой культуре можно обнаружить и в «деревенской прозе», и в фантастике, и в историческом романе, не говоря уже о сказочном кино; более того, эти позднесоветские репрезентации создали и успешно использовали такие модели разработки славянского метасюжета, которые сохраняют актуальность и востребованы у авторов / читателей / зрителей / слушателей по сей день, в том числе воспроизводятся в суб-поле славянского фэнтези. Разумеется, описать все многообразие упомянутых репрезентаций вряд ли возможно, да и не является задачей настоящей работы, а если анализировать даже только наиболее известные и значимые, понадобится посвятить такому анализу отдельную книгу по причине обилия материала для исследования; поэтому позволю себе ниже «рисовать широкими мазками», фокусируясь прежде всего на моделях как таковых и на их рецепции, а не на конкретных воплощениях той или иной модели, – но, безусловно, привлекая в качестве примеров «ключевые», «прецедентные» тексты различных жанров и формул советской массовой культуры.
Относительно самих моделей разработки славянского метасюжета, проведенный анализ семантического пространства советской массовой культуры позволяет свести их количество к трем, наиболее популярным и наиболее часто используемым; показательно, что и в современном славянском фэнтези используются преимущественно те же три модели, «обобщающие» видимое разнообразие сюжетики художественных произведений. Между ними не было и нет строгих границ, многие тексты воспроизводят две и даже три модели одновременно, однако для каждого текста все-таки возможно выделить основополагающую модель – опираясь в первую очередь на оценку публики, зафиксированную в репутации конкретных произведений.
Эти модели можно определить как героико-эпическую, «родноверскую» (неоязыческую) и деконструкционистскую. Героико-эпическая, иначе просто эпическая или «богатырская», модель воплощается в повествованиях о подвигах условно-древнеславянского воина, былинного витязя в его различных ипостасях, и противостояния этого воина, индивидуально и в коллективе, различным «супостатам», которые «приходят с мечом» на родную землю героя. «Родноверская» модель строится на попытках восстановить «веру пращуров», актуализировать в современном социуме дохристианскую культурную ситуацию и среду. Наконец деконструкционистская модель переосмысляет славянский метасюжет в комическом и даже сатирическом ключе, деконструирует героический пафос и фактически дезавуирует культурный национализм (в то же время продолжая его тиражировать в рамках массовой культуры самим фактом обращения к данному метасюжету).
Жанр или формулу, в которых бы какая-либо из указанных моделей превалировала, выделить затруднительно; скорее, можно говорить о том, что некий жанр / формула массового искусства тяготеют преимущественно к той или иной модели. Ниже этот тезис получит обоснование и будет подтвержден убедительными, как хочется надеяться, примерами.
Героико-эпическая модель славянского метасюжета в советской массовой культуре
Вплоть до середины 1930-х годов героика славянского метасюжета в советской культуре воспроизводилась в комических интерпретациях: помимо упоминавшегося выше либретто Д. Бедного к опере А. И. Таирова (этот текст представлял собой переделку либретто В. А. Крылова к «исходной» опере-фарс А. П. Бородина «Богатыри» 1867 г.[295 - В тексте Крылова действуют «псевдобогатыри» Авоська, Небоська, Чудила и Купила, выдающие себя за подлинных богатырей; продолжая эту линию, Д. Бедный представил в своем либретто «пьяную бражку князя Владимира», которую наделил именами богатырей из былин, – за что, равно как и за очернение самого Владимира, был подвергнут суровой партийной критике. См.: Дубровский А. М. Историк и власть. С. 157—160.]), можно вспомнить, например, буффонаду «Крещение Руси» (1932), в которой «былинные богатыри выступали в роли жандармской охранки», а Микула Селянинович появлялся «в неукоснительно пьяном виде» и произносил «путаные, непонятные слова»[296 - Видре В. Др. Крещение Руси // Рабочий и театр. Л., 1932. №1. С. 14.]. Подобная «фальсификация народного прошлого»[297 - Формулировка П. М. Керженцева; см.: Фальсификация народного прошлого (о «Богатырях» Демьяна Бедного) // Правда. 15 ноября 1936 г. См. также сборник статей «Против фальсификации народного прошлого» (М. – Л., 1937).] в новой государственно-державной системе координат, сложившейся после «руссоцентричного поворота», выглядела недопустимой; как отмечалось ранее, исправить положение был призван в том числе патриотический исторический роман.
Как отмечает Б. В. Дубин, для советского исторического романа уже с конца 1920-х годов была характерна «патриотическая» линия, которую представляли произведения державные, скажем, «Петр Первый» А. Н. Толстого и военно-патриотические, к примеру, «монгольская трилогия» В. Яна и «Олегов щит» В. М. Саянова (1934). Причем со второй половины 1930-х годов в советской исторической романистике «на первый план выходят проблемы построения мощного национального государства… темы „наследия“, культурного синтеза, классики и пр.»[298 - Дубин Б. В. Семантика, риторика и социальные функции «прошлого»: к социологии советского и постсоветского исторического романа. М.: ГУ ВШЭ, 2003. С. 15—16.] А с 1960-х годов, и особенно в 1970-х – 1980-х, усиливается – в связи с обстоятельствами, о которых говорилось выше – интерес к отечественным «истокам», к «киевскому» и «московскому» периодам собирания русского государства, наконец, к догосударственной и племенной Руси; именно тогда в текстах советской исторической беллетристики появляется и начинает активно воспроизводиться идеологема «почвы», наряду с «иными знаками того же органического ряда»[299 - Ibid. С. 21.] – «род», «кровь» и т. [300 - См., например: Анисимов Е. В. «Феномен Пикуля» – глазами историка // Знамя. 1987. №11. С. 214—223.]д. Эти символы «традиционалистского, партикулярно-национального целого» противопоставлялись образам внешнего и внутреннего врага; прошлое успешно мифологизировалось в «державно-патриотической версии отечественной и воспринимаемой через нее мировой истории»[301 - Дубин Б. В. Семантика, риторика и социальные функции «прошлого»: к социологии советского и постсоветского исторического романа. С. 40. Ср.: «Историческая художественная литература давно уже превратилась в средство познания народом своей многовековой истории, своего героического прошлого»; см.: Каргалов В. В. Древняя Русь в советской художественной литературе. М.: Высшая школа, 1968. С. 4. Данная цитата – не образчик «дежурной» советской риторики, а современное тиражированию указанных идеологем свидетельство героизации и одновременно банализации (по П. Бурдье) былого в советской исторической беллетристике.], благодаря чему в коллективном знании и массовой культуре возникали и закреплялись стереотипы, по сей день эксплуатируемые как государственной пропагандой, так и массовым искусством.
«Русь изначальная», догосударственная, вошла в советскую массовую литературу с публикацией одноименного романа В. Д. Иванова (1961), который сразу получил читательское признание[302 - Один из членов московского «русского клуба», прозаик А. И. Байгушев в своих воспоминаниях утверждает, что В. Д. Иванову пришлось пережить «многие годы преследований и травли»; подтверждений этому заявлению в других источниках обнаружить не удалось. См.: Вдовин А. И. Из истории общественно-политической борьбы в СССР 1960-е – 1980-е гг. // Образовательный портал «Слово»; 2009. Раздел «История». URL: http://www.portal-slovo.ru/history/40361.php. Дата доступа 30 августа 2017 г.]; более того, название романа со временем сделалось популярной дефиницией, по сей день бытующей в массовой культуре[303 - Об этом свидетельствует, например, результат поисковой выдачи по запросу «Русь изначальная» в Google: 391 000 ссылок, причем приблизительно каждая четвертая/пятая из них отсылает к печатным и электронным материалам в СМИ под таким заголовком, и во многих случаях роман В. Д. Иванова не упоминается даже вскользь. Можно вспомнить и пародийные тексты последних лет, высмеивающие модели советского исторического романа, в частности, «Русь измочаленная» и «Работорговцы» (пародия на «Ратоборцев» А. К. Югова) Ю. Ф. Гаврюченкова.]. В романе описывается родовое южнославянское общество VI века: крепкие автономные роды, возглавляемые «князь-старшинами», и межродовая дружина во главе с воеводой, обороняющая границу «Поросья» от набегов кочевников. Главный герой романа – воевода Всеслав[304 - Любопытно, что герои многих произведений советского исторического романа и современной славянской фэнтези носят имена с окончанием «-слав» или «-слава» (Всеслав, Мирослав, Твердислав, Милослава и др.) Вероятно, по мнению авторов, подобные имена служат дополнительным средством славянской идентификации персонажей. По замечанию Т. Н. Бреевой, эта практика в отечественной словесности восходит к XVIII столетию: «…в культуре XVIII века этимология имени «славяне» выстраивается по созвучию слова «слава». Героический дискурс в осмыслении национальной идентичности поддерживается появлением многочисленных волшебно-богатырских повестей: «Пересмешник, или Славенские сказки» М. Чулкова, «Старинные диковинки, или Удивительные приключения славенских князей…» М. Попова, «Русские сказки, содержащие древнейшие повествования о славных богатырях, сказки народные и прочие оставшиеся через пересказывание в памяти приключения» В. Левшина». См.: Бреева Т. Н. Концептуализация национального в русском историософском романе ситуации рубежности.], чтящий отеческих богов (прежде всего Перуна как покровителя ратного дела) и защищающий уже не столько владения родов, сколько саму «родимую землицу». «Вот твой бог, а вот твои братья, – говорит он молодому дружиннику. – Мы дружина Перуна, один за всех, и все за одного. Мы выше рода, мы сила росского языка, меч и щит». Одержав ряд побед над степняками, Всеслав объединяет под своей властью все роды Поросья и даже соседние племена, становится фактически самодержавным правителем («Непослушных ставленные мною князь-старшины смертью накажут на месте!») и предпринимает поход на Византию, после которого россы отправляются на север – вовлекать в «союз россичей» дальние славянские племена, вплоть до вятичей.
Этот роман В. Д. Иванова содержит несколько сюжетных ходов, впоследствии растиражированных позднесоветским историческим романом и «ефремовской школой» советской фантастики, а затем унаследованных «героическим» славянским фэнтези:
– романтический герой-одиночка, бросающий вызов традиционному укладу жизни (разумеется, данный сюжетный ход не является исключительной прерогативой советского исторического романа, однако он постоянно воспроизводится, поэтому выделить ее необходимо);
– романтическая идеализация «своего», прежде всего «земли», «почвы» и «языка»[305 - О значении этих и подобных им понятий для русского национального самосознания см.: Рябов О. В. «Матушка-Русь». Опыт гендерного анализа поисков национальной идентичности России в отечественной и западной историософии.];
– абсолютизация инакости «чужого» (с чужими, неславянами, не договариваются, их грабят и уничтожают);
– алиенизация Степи (противопоставление оседлых славян кочевым степнякам, которые «не в силах понять» славянский образ жизни)[306 - Вполне вероятно, что В. Д. Иванов, будучи близок к движению русских националистов, был знаком с теорией пассионарности Л. Н. Гумилева (см. далее) и разделял представление последнего об «этнической несовместимости» славян и кочевников-тюрков. О влиянии теории Л. Н. Гумилева на идеологию русских националистов см. указанную работу Н. А. Митрохина. Также существует мнение, что Л. Н. Гумилев, сам оставаясь в рамках исторической науки, «подготовил почву для бурного произрастания разнообразных творцов псевдоисторического бреда… с необходимой аудиторией потребителей их продукции. Без него ни первые не были бы столь самоуверенны, ни вторые столь многочисленны. Ибо Л. Гумилев своим авторитетом как бы санкционировал произвольное обращение с историей». См.: Шнирельман В. А., Панарин С. А. Лев Николаевич Гумилев: основатель этнологии? // Вестник Евразии. №3 (10). 2000. С. 32—33.];
– условно-средневековый мир, в котором разворачивается действие (хотя сюжет отнесен к VI веку нашей эры);
– поклонение языческим божествам как элемент достоверности «декораций», на фоне которых разворачивается действие;
– былинно-сказительская стилистика повествования (уснащение текста историзмами и архаизмами, использование лексических оборотов из былин, былинный «напевный склад» речи героев и т. д.; отчасти этот художественный прием использовал и В. Ян, однако именно с «Руси изначальной» данный прием стал обязательным элементом советского исторического романа[307 - См.: Виноградов В. В. Из истории стилей русского исторического романа // Вопросы литературы. 1958. №12. С. 115—135; Бабкин A. M. Русская фразеология, ее развитие и источники. Л.: Наука, 1970; Белодед И. К. Лингвостилистические тенденции современного советского романа. // Проблемы современной филологии. М.: Наука, 1965, с. 14—31, а также указанную работу В. В. Каргалова.]);
– широкое использование архаизмов и псевдо-архаизмов (например, «князь-старшина») для создания языковой картины славянской древности; при этом допускается использование лингвистических анахронизмов или условных анахронизмов (те же «воевода», «слобода» в значении «застава» и др.).
Помимо разработки указанных сюжетных ходов, этот роман популяризировал среди читательской аудитории теорию Б. А. Рыбакова об автохтонности славянского населения на территории Украины[308 - Критику этой концепции см., например, у А. П. Новосельцева: «Мир истории» или миф истории? // Вопросы истории. 1993. №1. С. 23—32]. Сам автор романа, как отмечал А. Г. Кузьмин, «примыкал в целом к концепции Б. А. Рыбакова, консультации и рецензии которого имели для писателя наибольшее значение… В то же время в романе упомянуты русы, живущие на побережье озера Ладоги, что указывает на сомнения самого В. Д. Иванова в правильности концепции происхождения Руси, которую он избрал в романе…»[309 - Кузьмин А. Г. Откуда есть пошла Русская земля: происхождение народа // Иванов В. Д. Русь изначальная. М.: Молодая гвардия, 1986. С. 31. Как уже отмечалось, научно-общественная дискуссия между норманистами и антинорманистами о началах русской государственности имеет давнюю историю, восходя к XVIII столетию, и в рамках советской идеологии неоднократно использовалась (да и сегодня продолжает использоваться) в качестве «лакмусовой бумаги» для определения «патриотичности». См., например, переписку относительно книги В. В. Фомина «Варяги и варяжская Русь» (2005), опубликованную в альманахе «Русская панорама» (№560, 16 марта 2008 г.) // Электронная версия: http://www.lebed.com/2008/art5270.htm. Дата доступа 30 августа 2017 г. См. также: Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПБ.: Евразия, 2005.] Так или иначе, благодаря во многом именно «Руси изначальной» представление об автохтонности славян на этой территории закрепилось в коллективном знании (чем, кстати, не преминули позднее воспользоваться украинские националисты, заговорившие о древнейшем «праукраинском материнском» этносе[310 - См., например: Черепанова С. О. Философия родознавства. Львов, 2000.]).
В целом «Русь изначальную», учитывая отсутствие документальных сведений об эпохе, в которой разворачивается действие романа, следует отнести не к исторической беллетристике, а, скорее, к историософской прозе (которая наделяет ход истории неким смыслом и некой целью – разумеется, с позиций сегодняшнего дня[311 - «В историческом романе история выступает как объект высказывания… В историософском романе история начинает рассматриваться уже как предмет высказывания, что в значительной степени способствует трансформации соотношения романного и исторического начала». См.: Бреева Т. Н. Жанровая специфика историософского романа в русской литературе XX века // Вестник ТГГПУ. Филология и культура. 2010. №20. С. 138—147.]) – или даже, если опираться на современную классификацию направлений массового искусства, к фэнтези: это авторское представление о «славном прошлом», очевидно условном и неверифицируемом; если вспомнить определение фэнтези, данное ранее, – массовое воспроизведение возможности приобщения к чудесному / иррациональному через ретроспективное погружение в романтизированный условно-средневековый литературно-культурный стереотипный образ, – отнесение «Руси изначальной» к фэнтези вряд ли покажется натянутым («чудесное / иррациональное» в данном случае предстает в образе «родной земли»). Возможно, именно поэтому «Русь изначальная» по сей день остается наиболее популярным у читателей произведением В. Д. Иванова, тогда как его же «Повести древних лет» (1955) и роман «Русь великая» (1967) вызывают в основном критические отзывы[312 - Ср., например, сетевую полемику в дискуссии о творчестве В. Д. Иванова на форуме Миссионерского портала диакона А. Кураева: http://kuraev.ru/smf/index.php?topic=375901 (http://kuraev.ru/smf/index.php?topic=375901). Дата доступа 30 августа 2017 г.] (вдобавок эти произведения описывают более поздние эпохи, IX и XI века соответственно, для которых уже сохранилось достаточно документальных источников, особенно в сравнении с дописьменным периодом)[313 - Еще одним популярным по сей день произведением В. Д. Иванова является роман «Желтый металл» (1956), но его популярность носит скандальный характер, поскольку этот роман сразу после публикации был запрещен советской цензурой за откровенный антисемитизм и более не переиздавался (однако в Интернете можно свободно скачать электронную версию этого текста). Подробнее о данном романе, его содержании и запрете см. указанную работу Н. А. Митрохина, с. 63—71.].
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: