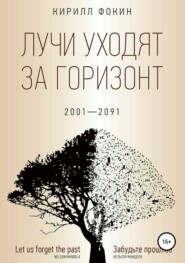По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь Ленро Авельца
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ясно, когда началась вся эта суматоха с забастовками и митингами, кто из нас не порадовался втайне – мол, Худзё наконец получит по заслугам? И кто не огорчился бы, узнав, что ему приказано встать на защиту этого бездарного существа? Меня подставили – не знаю, от кого исходила инициатива отправить в Шанхай именно меня, подозреваю, то были военные. Они так и не простили мне резолюцию 418/7 и публичную порку на Генассамблее.
Я тогда как раз сопровождал своего начальника, председателя Особого комитета Организации генерала Уинстона Уэллса, в поездке по Средней Азии. Меня донимала жара, и, не буду скрывать, постоянная угроза взрывов не способствует душевному здоровью. Вопли муэдзинов с минаретов, будившие по утрам, лезущая в глаза пыль, навозные кучи на улицах, вонючие ослы и мулы, базарный галдёж и невозможность шаг сделать без армии телохранителей сводили меня с ума. Постоянные перемещения с палящего солнца под вьюгу кондиционеров и обратно привели к тому, что у меня начался страшный насморк. Я умирал.
А мой руководитель, генерал Уэллс, носился из пустыни в пустыню и инспектировал военные базы, периодически случайно пересекая границы каких-то псевдостран, и общался с аборигенами так, словно его действительно интересовала их доисторическая скотоводческая культура. Я плёлся за ним, как раб, как слуга с опахалом. Трясущимися руками я тянулся к каждому стакану воды в поле зрения и, чихая, заматывал лицо влажным платком.
На третий день пребывания в Афганистане я пришёл к выводу, что британская, российская, советская и американская империи неслучайно, захватив полмира, проиграли здесь. Помотавшись семь-восемь часов по Кандагару, лёжа в корке пота и грязи в ветхой гостинице, оцепленной танками и бэтээрами, с ржавой тёплой (тёплой!) водой из не менее ржавого крана, под неотключаемым сломанным кондиционером, человек терпит полный экзистенциальный крах.
Все триумфы разума, все взлёты человеческой цивилизации, весь ребячий восторг от видов Манхэттена и экодолин Калифорнии, космодромов и взмывающих в небо ракет, заполярных станций, атомных ледоколов и батисфер; шедевры Возрождения, сонеты Шекспира и сады Семирамиды, Эсхил и Лунная станция, «Набукко» Верди и Магна Карта, и Омар Хайям, и буддийские монастыри в горах Тибета, и отважные африканеры, мчащие на лендроверах по саваннам, – всё, что заставляет сердце биться, рассеивает мрак Вселенной и зажигает маяк смысла, – всё сокрушают босые попрошайки Джелалабада, тяжёлый взгляд погонщика овец и запах от его отары.
Иными словами, когда Уэллс меня вызвал и приказал немедленно взять его самолёт, лететь в Шанхай и навести там порядок, я воспринял это не как наказание (о чём думали мои враги) и не как шанс проявить себя (о чём думал Уэллс), а как счастливую возможность вырваться из этой геенны отчаяния.
Поднявшись в воздух и помахав рукой Кабулу, я первым делом принял душ. Приятно всё-таки стоять под струями чистой воды и не бояться, что она вдруг закончится, изменит цвет или превратится в кипяток.
Мы летели над Индией. Прямо по курсу вставало солнце, красавица стюардесса принесла мне завтрак, и я сидел в халате, чистый и гладко выбритый, истративший, наверное, полфлакона увлажняющего крема и четверть флакона парфюма, ел омлет с трюфелями, пил чёрный кофе и думал: Господи Боже Всевышний и Всемогущий, как после этого я могу не верить в Тебя и не славить Имя Твоё?..
После выяснения отношений между пуштунами и хазарейцами что угодно показалось бы мне простой задачей, даже Маргарет Тэтчер обратить в коммунизм; что и говорить о беспорядках, длившихся в Шанхае всего-то последний месяц. Доедая завтрак, выбирая костюм, галстук и рубашку, я думал: задача – проще не бывает.
Мои познания о премьере Худзё исчерпывались тем, что он коррупционер и проходимец; того, что он повредился рассудком, создал тайную полицию и отдал приказ ломать руки и ноги своим критикам, я не знал. Естественно, его тайная полиция напоминала скорее отряды хунвейбинов, чем гестапо, – и «тайным» в ней оставался разве что смысл существования. В замешательстве было не только ОКО, но даже ЦРУ, а этих ребят непросто удивить.
Гангстеры Худзё избивали журналистов, срывали муниципальные выборы, похищали активистов. Всё бы обошлось – да только тесть Худзё, великий человек, возглавивший эту шпану, решил наехать на одну транспортную компанию, топ-менеджеры которой отмывали деньги через шанхайский порт. «Тайные» полицейские нагрянули туда и учинили погром, в результате которого погибли трое рабочих. Их тела спрятали и почему-то не выдавали семьям, полиция разводила руками, пара десятков человек пришли в порт на митинг, их разогнали водомётами. Сеть взорвалась. Худзё пригрозил отключить её, но, понятное дело, не отключил.
В результате сто тысяч человек вышли на Народную площадь и потребовали отставки правительства, перевыборов в парламент и правды о событиях в порту.
Мафия, правящая городом-государством, переговоры вести отказалась. Полиция получила ордера на арест лидеров профсоюзов, начались беспорядки, за водомётами в ход пошли резиновые пули. Волнения не прекращались. Город и лично Худзё теряли миллиарды.
Когда полиция начала наступление на Народной площади и взяла протестующих в клещи, появился он.
Преподобный Джонс.
Он нёс на руках маленькую лысую девочку, раковую больную, у родителей которой не было денег на лекарства. Зато у них была страховка, аннулированная из-за того, что её отец состоял в портовом профсоюзе, обвинённом в подрывной деятельности. Девочку отказались лечить и буквально выкинули из больницы. Родители взяли её с собой на митинг, не придумав ничего лучше, чем тащить испуганного тяжелобольного ребёнка в эпицентр уличных беспорядков. Конечно, там ей стало плохо, и она потеряла сознание.
И тогда Джонс взял её на руки и вынес к полиции. Он остановился напротив сдвинутых полицейских щитов, напротив скрытых забралами лиц и стучащих о щиты дубинок. Броненосец власти – против одинокого священника в длинной чёрной рясе и в очках. Он стоял и молча смотрел на них, держа на руках умирающую девочку. На ней была белая, испачканная кровью кофта, рваные джинсы и только один розовый кед. Эту фотографию показали все мировые СМИ. Для многих она превратилась в икону, такую же, как тот китаец перед танками на площади Тяньаньмэнь.
Полицейские их пропустили. Джонс прошёл. Куда? Удалось ли спасти девочку? Что случилось с ней дальше? Никого не интересовало. Когда Джонс вернулся на площадь, разведя полицейское оцепление руками, словно море, он уже превратился в легенду и символ протеста.
После выяснения отношений между пуштунами и хазарейцами что угодно показалось бы мне простой задачей, даже Маргарет Тэтчер обратить в коммунизм; что и говорить о беспорядках, длившихся в Шанхае всего-то последний месяц. Доедая завтрак, выбирая костюм, галстук и рубашку, я думал: задача – проще не бывает.
Мои познания о премьере Худзё исчерпывались тем, что он коррупционер и проходимец; того, что он повредился рассудком, создал тайную полицию и отдал приказ ломать руки и ноги своим критикам, я не знал. Естественно, его тайная полиция напоминала скорее отряды хунвейбинов, чем гестапо, – и «тайным» в ней оставался разве что смысл существования. В замешательстве было не только ОКО, но даже ЦРУ, а этих ребят непросто удивить.
Гангстеры Худзё избивали журналистов, срывали муниципальные выборы, похищали активистов. Всё бы обошлось – да только тесть Худзё, великий человек, возглавивший эту шпану, решил наехать на одну транспортную компанию, топ-менеджеры которой отмывали деньги через шанхайский порт. «Тайные» полицейские нагрянули туда и учинили погром, в результате которого погибли трое рабочих. Их тела спрятали и почему-то не выдавали семьям, полиция разводила руками, пара десятков человек пришли в порт на митинг, их разогнали водомётами. Сеть взорвалась. Худзё пригрозил отключить её, но, понятное дело, не отключил.
В результате сто тысяч человек вышли на Народную площадь и потребовали отставки правительства, перевыборов в парламент и правды о событиях в порту.
Мафия, правящая городом-государством, переговоры вести отказалась. Полиция получила ордера на арест лидеров профсоюзов, начались беспорядки, за водомётами в ход пошли резиновые пули. Волнения не прекращались. Город и лично Худзё теряли миллиарды.
Когда полиция начала наступление на Народной площади и взяла протестующих в клещи, появился он.
Преподобный Джонс.
Он нёс на руках маленькую лысую девочку, раковую больную, у родителей которой не было денег на лекарства. Зато у них была страховка, аннулированная из-за того, что её отец состоял в портовом профсоюзе, обвинённом в подрывной деятельности. Девочку отказались лечить и буквально выкинули из больницы. Родители взяли её с собой на митинг, не придумав ничего лучше, чем тащить испуганного тяжелобольного ребёнка в эпицентр уличных беспорядков. Конечно, там ей стало плохо, и она потеряла сознание.
И тогда Джонс взял её на руки и вынес к полиции. Он остановился напротив сдвинутых полицейских щитов, напротив скрытых забралами лиц и стучащих о щиты дубинок. Броненосец власти – против одинокого священника в длинной чёрной рясе и в очках. Он стоял и молча смотрел на них, держа на руках умирающую девочку. На ней была белая, испачканная кровью кофта, рваные джинсы и только один розовый кед. Эту фотографию показали все мировые СМИ. Для многих она превратилась в икону, такую же, как тот китаец перед танками на площади Тяньаньмэнь.
Полицейские их пропустили. Джонс прошёл. Куда? Удалось ли спасти девочку? Что случилось с ней дальше? Никого не интересовало. Когда Джонс вернулся на площадь, разведя полицейское оцепление руками, словно море, он уже превратился в легенду и символ протеста.
Отныне именно его осуждающий, но в то же время кроткий взгляд из-под потрескавшихся очков, его тонкие изогнутые губы и сведённые в молитве руки с чётками, его проповеди о том, что индульгенции не выдаются «в зависимости от профессии» и политиков на Страшном суде будут судить той же мерой, что и остальных, – вот что стало главной угрозой старому правительству.
Все поняли, что Худзё время уйти, – все, кроме него самого.
Будучи человеком глупым и озлобленным, Худзё являл собой самый опасный в такой ситуации тип: истерик, неспособный успокоиться, и трус, страстно убеждающий себя, что он – человек принципов. В панике он едва не отдал приказ стрелять. Джонс, продолжавший молча стоять против заграждений полиции и отсвечивать своим серебряным крестом в стёкла бэтээров, пал бы первым – и вознёсся на небо. По крайней мере, в глазах обезумевшей толпы, которая бы ринулась на баррикады и превратила город в кровавые руины.
Повторяю, единственное, что меня интересовало, – какого чёрта Худзё до сих пор не опустошил свои сейфы и не свалил в Венесуэлу? Какая тупая сила заставляла его день за днём повторять, что он-де «не уйдёт в отставку»? Каждый день его бараньего упрямства делал Джонса сильнее.
Когда я прилетел, преподобный обнаглел уже до такой степени, что отказывался вести переговоры с кем-либо, кроме посредника из Организации. Как смог бы догадаться даже Худзё, этим посредником был я.
Премьер-министр внушал отвращение. Я сомневался в искренности Джонса, но он хотя бы проявлял определённое мужество, и в каком-то смысле я сочувствовал ему. И хотя Уэллс проинструктировал меня, что Организация не желает радикальных перемен (как всегда), я ещё в самолёте решил: с Худзё и его бандитами мы прощаемся.
Тот это почувствовал. Он примчался встречать меня в аэропорт, приехал прямо к трапу самолёта. Я специально долго не выходил, чем свёл протокол с ума, но я хотел сразу поставить его на место.
Было раннее туманное утро. Я медленно спускался по трапу и прямо видел, как извёлся толстый премьер. Костюм весь помятый, галстук съехал набок, глаза красные, одышка. Неприятно, когда двадцатисемилетний выскочка в пижонском приталенном костюме заставляет тебя ждать? Так надо нормально управлять, а не заниматься онанизмом.
Я пожал ему руку, отринув гигиену, и заверил, что всё будет хорошо, но сесть в его машину отказался и поехал со службами ОКО.
В дороге помощники спросили, что ответить Джонсу, и я согласился на встречу. Сомнений в послушности Худзё у меня почти не было. Несмотря на малоприятные вещи, которыми Организация посылала меня заниматься, несмотря на авгиевы конюшни, которые мне приходилось расчищать, я всегда испытывал приятное чувство от того, что за каждым моим словом – вся мощь Организации. Успокаивает, когда знаешь, что за твоей спиной – самая грандиозная власть, когда-либо распоряжавшаяся на Земле.
Не поймите меня неправильно: я вовсе не был уверен в успехе. Полномочия, которыми меня наделил Уэллс, меня не опьянили. Отставка Худзё – неизбежность. Отставка правительства и перевыборы – пожалуйста, vox populi – vox dei. Реформы – сложнее, это долгая игра, но ради таких задач народы Земли и создали Организацию, так что всё обсуждаемо и всё возможно. А вот судебные процессы над Худзё и его подельниками, вследствие которых могут вскрыться направления некоторых денежных потоков, – уже другая история, но я легко отыграю её у восставших за счёт остальных позиций.
Моё недоверие к Джонсу и его имиджу бессребреника носило положительный характер. Я подозревал в нём человека умного, не лишённого амбиций, но при этом рационального и твёрдого. С другой стороны, в овечьей шкуре Джонс мог прятать клыки фанатика – и если разумного, то тем более опасного. В пользу этой гипотезы были свои аргументы – он не соглашался говорить на нейтральной территории, а требовал меня к себе, без оружия и сопровождения, якобы в знак доброй воли. Он мог взять меня в заложники и торговаться уже не с никчёмным Худзё, а со всей Организацией – мечта любого террориста!
Парадоксально, но на руку Джонсу могло сыграть и моё убийство – безотказный триггер эскалации, если он её добивался. Или он мог оказаться больным параноиком – такие часто возглавляют революции – и прикончить меня по прихоти разыгравшегося воображения.
Каждый из этих сценариев равновероятен. Я рисковал, я положился на удачу, – и хоть в ОКО утверждали, что имеют агентов в окружении Джонса и наедине с ним меня не оставят, а снайперы и дроны над площадью будут меня вести, на всякий случай я всё же набросал заявление, где обвинил в своей смерти Джонса, но просил не применять огнестрельное оружие и не разгонять протестующих. Убей он меня – он разрушил бы все идеалы, за которые боролся, и сам бы себя погубил.
Поэтому я не верил, что мне грозит реальная опасность. На переговоры я шёл в приподнятом настроении: священник, решивший стать политиком, – это всегда интересно! Величайший политик наполеоновских войн Талейран, если помните, был епископом. Такие люди тяготеют к театральности, а знание древних текстов и умение напускать на себя глубокомудрый вид – то, на чём прокалывается большинство, – священники впитывают с семинарской скамьи.
Необязательно разбираться в международной торговле или праве, в истории или монетарной политике, чтобы вести за собой людей. Нужно просто внушать уважение. Показывать, что только вы знаете, куда и зачем идти. Здесь знание теологии помогает больше, чем докторская по Кейнсу, а практика проповеди даст фору любым тренингам по ведению дебатов. Неслучайно комплекс Моисея, который в разной форме присущ большинству успешных политиков, назван в честь религиозного лидера. Адольф Гитлер, кстати, тоже страдал этим неврозом – неплохо отомстили ему психиатры-иудеи.
Был ли комплекс Моисея у Джонса? Намеревался ли он возглавить оппозицию, привести её к победе и занять кресло, продавленное весом Худзё?.. Я знал (и я оказался прав) – одного слова Джонса хватит, чтобы протестующие разошлись. Чего я не ожидал – так это новых требований, которые оказались не столь экстравагантны, сколь необычны в предлагаемых обстоятельствах.
Как и было сказано, я прибыл на Народную площадь. Вокруг полиция, кучи неубранного мусора, люди скрывают лица от камер слежения; я шёл сквозь толпу, мимо импровизированных баррикад, мимо зажжённых фаеров, мимо отключённого фонтана – к наспех возведённому палаточному городку. Меня вели крепкие ребята из портового профсоюза, но значок Организации на лацкане защищал меня лучше любого телохранителя.
Джонс вышел из палатки. Я не сразу узнал его – вживую он отличался от того обличителя несправедливости, которого рисовали СМИ. Он протянул мне руку, слегка поклонился и поправил сползшие на нос очки.
– Никак не успеваю поменять, – сказал он, смешно моргая, – знаете, ведь вокруг сейчас нет ни одной работающей аптеки.
О, эти очки. Уже тогда Джонс начал делать из них, двух круглых линз без оправы, где на правой виднелись две маленькие, но заметные трещинки, символ своей революции. Наверное, он обладал даром провидения. А ещё даром убеждения и харизмой – сегодня-то я понимаю, что Джонс точно знал, что делает. Он специально играл роль маленького, но уверенного в своей правде человека. Человека, который никогда не собирался, да и не хотел восставать – но вот упала девочка, и Бог сказал: «Встань и иди».
– Когда я что-то делаю, я просто стараюсь думать, как бы на моём месте поступил Иисус, – сказал он мне, когда мы устроились в его палатке за пластиковым столом. – Хотите воды или чего-нибудь?..
Я тогда как раз сопровождал своего начальника, председателя Особого комитета Организации генерала Уинстона Уэллса, в поездке по Средней Азии. Меня донимала жара, и, не буду скрывать, постоянная угроза взрывов не способствует душевному здоровью. Вопли муэдзинов с минаретов, будившие по утрам, лезущая в глаза пыль, навозные кучи на улицах, вонючие ослы и мулы, базарный галдёж и невозможность шаг сделать без армии телохранителей сводили меня с ума. Постоянные перемещения с палящего солнца под вьюгу кондиционеров и обратно привели к тому, что у меня начался страшный насморк. Я умирал.
А мой руководитель, генерал Уэллс, носился из пустыни в пустыню и инспектировал военные базы, периодически случайно пересекая границы каких-то псевдостран, и общался с аборигенами так, словно его действительно интересовала их доисторическая скотоводческая культура. Я плёлся за ним, как раб, как слуга с опахалом. Трясущимися руками я тянулся к каждому стакану воды в поле зрения и, чихая, заматывал лицо влажным платком.
На третий день пребывания в Афганистане я пришёл к выводу, что британская, российская, советская и американская империи неслучайно, захватив полмира, проиграли здесь. Помотавшись семь-восемь часов по Кандагару, лёжа в корке пота и грязи в ветхой гостинице, оцепленной танками и бэтээрами, с ржавой тёплой (тёплой!) водой из не менее ржавого крана, под неотключаемым сломанным кондиционером, человек терпит полный экзистенциальный крах.
Все триумфы разума, все взлёты человеческой цивилизации, весь ребячий восторг от видов Манхэттена и экодолин Калифорнии, космодромов и взмывающих в небо ракет, заполярных станций, атомных ледоколов и батисфер; шедевры Возрождения, сонеты Шекспира и сады Семирамиды, Эсхил и Лунная станция, «Набукко» Верди и Магна Карта, и Омар Хайям, и буддийские монастыри в горах Тибета, и отважные африканеры, мчащие на лендроверах по саваннам, – всё, что заставляет сердце биться, рассеивает мрак Вселенной и зажигает маяк смысла, – всё сокрушают босые попрошайки Джелалабада, тяжёлый взгляд погонщика овец и запах от его отары.
Иными словами, когда Уэллс меня вызвал и приказал немедленно взять его самолёт, лететь в Шанхай и навести там порядок, я воспринял это не как наказание (о чём думали мои враги) и не как шанс проявить себя (о чём думал Уэллс), а как счастливую возможность вырваться из этой геенны отчаяния.
Поднявшись в воздух и помахав рукой Кабулу, я первым делом принял душ. Приятно всё-таки стоять под струями чистой воды и не бояться, что она вдруг закончится, изменит цвет или превратится в кипяток.
Мы летели над Индией. Прямо по курсу вставало солнце, красавица стюардесса принесла мне завтрак, и я сидел в халате, чистый и гладко выбритый, истративший, наверное, полфлакона увлажняющего крема и четверть флакона парфюма, ел омлет с трюфелями, пил чёрный кофе и думал: Господи Боже Всевышний и Всемогущий, как после этого я могу не верить в Тебя и не славить Имя Твоё?..
После выяснения отношений между пуштунами и хазарейцами что угодно показалось бы мне простой задачей, даже Маргарет Тэтчер обратить в коммунизм; что и говорить о беспорядках, длившихся в Шанхае всего-то последний месяц. Доедая завтрак, выбирая костюм, галстук и рубашку, я думал: задача – проще не бывает.
Мои познания о премьере Худзё исчерпывались тем, что он коррупционер и проходимец; того, что он повредился рассудком, создал тайную полицию и отдал приказ ломать руки и ноги своим критикам, я не знал. Естественно, его тайная полиция напоминала скорее отряды хунвейбинов, чем гестапо, – и «тайным» в ней оставался разве что смысл существования. В замешательстве было не только ОКО, но даже ЦРУ, а этих ребят непросто удивить.
Гангстеры Худзё избивали журналистов, срывали муниципальные выборы, похищали активистов. Всё бы обошлось – да только тесть Худзё, великий человек, возглавивший эту шпану, решил наехать на одну транспортную компанию, топ-менеджеры которой отмывали деньги через шанхайский порт. «Тайные» полицейские нагрянули туда и учинили погром, в результате которого погибли трое рабочих. Их тела спрятали и почему-то не выдавали семьям, полиция разводила руками, пара десятков человек пришли в порт на митинг, их разогнали водомётами. Сеть взорвалась. Худзё пригрозил отключить её, но, понятное дело, не отключил.
В результате сто тысяч человек вышли на Народную площадь и потребовали отставки правительства, перевыборов в парламент и правды о событиях в порту.
Мафия, правящая городом-государством, переговоры вести отказалась. Полиция получила ордера на арест лидеров профсоюзов, начались беспорядки, за водомётами в ход пошли резиновые пули. Волнения не прекращались. Город и лично Худзё теряли миллиарды.
Когда полиция начала наступление на Народной площади и взяла протестующих в клещи, появился он.
Преподобный Джонс.
Он нёс на руках маленькую лысую девочку, раковую больную, у родителей которой не было денег на лекарства. Зато у них была страховка, аннулированная из-за того, что её отец состоял в портовом профсоюзе, обвинённом в подрывной деятельности. Девочку отказались лечить и буквально выкинули из больницы. Родители взяли её с собой на митинг, не придумав ничего лучше, чем тащить испуганного тяжелобольного ребёнка в эпицентр уличных беспорядков. Конечно, там ей стало плохо, и она потеряла сознание.
И тогда Джонс взял её на руки и вынес к полиции. Он остановился напротив сдвинутых полицейских щитов, напротив скрытых забралами лиц и стучащих о щиты дубинок. Броненосец власти – против одинокого священника в длинной чёрной рясе и в очках. Он стоял и молча смотрел на них, держа на руках умирающую девочку. На ней была белая, испачканная кровью кофта, рваные джинсы и только один розовый кед. Эту фотографию показали все мировые СМИ. Для многих она превратилась в икону, такую же, как тот китаец перед танками на площади Тяньаньмэнь.
Полицейские их пропустили. Джонс прошёл. Куда? Удалось ли спасти девочку? Что случилось с ней дальше? Никого не интересовало. Когда Джонс вернулся на площадь, разведя полицейское оцепление руками, словно море, он уже превратился в легенду и символ протеста.
После выяснения отношений между пуштунами и хазарейцами что угодно показалось бы мне простой задачей, даже Маргарет Тэтчер обратить в коммунизм; что и говорить о беспорядках, длившихся в Шанхае всего-то последний месяц. Доедая завтрак, выбирая костюм, галстук и рубашку, я думал: задача – проще не бывает.
Мои познания о премьере Худзё исчерпывались тем, что он коррупционер и проходимец; того, что он повредился рассудком, создал тайную полицию и отдал приказ ломать руки и ноги своим критикам, я не знал. Естественно, его тайная полиция напоминала скорее отряды хунвейбинов, чем гестапо, – и «тайным» в ней оставался разве что смысл существования. В замешательстве было не только ОКО, но даже ЦРУ, а этих ребят непросто удивить.
Гангстеры Худзё избивали журналистов, срывали муниципальные выборы, похищали активистов. Всё бы обошлось – да только тесть Худзё, великий человек, возглавивший эту шпану, решил наехать на одну транспортную компанию, топ-менеджеры которой отмывали деньги через шанхайский порт. «Тайные» полицейские нагрянули туда и учинили погром, в результате которого погибли трое рабочих. Их тела спрятали и почему-то не выдавали семьям, полиция разводила руками, пара десятков человек пришли в порт на митинг, их разогнали водомётами. Сеть взорвалась. Худзё пригрозил отключить её, но, понятное дело, не отключил.
В результате сто тысяч человек вышли на Народную площадь и потребовали отставки правительства, перевыборов в парламент и правды о событиях в порту.
Мафия, правящая городом-государством, переговоры вести отказалась. Полиция получила ордера на арест лидеров профсоюзов, начались беспорядки, за водомётами в ход пошли резиновые пули. Волнения не прекращались. Город и лично Худзё теряли миллиарды.
Когда полиция начала наступление на Народной площади и взяла протестующих в клещи, появился он.
Преподобный Джонс.
Он нёс на руках маленькую лысую девочку, раковую больную, у родителей которой не было денег на лекарства. Зато у них была страховка, аннулированная из-за того, что её отец состоял в портовом профсоюзе, обвинённом в подрывной деятельности. Девочку отказались лечить и буквально выкинули из больницы. Родители взяли её с собой на митинг, не придумав ничего лучше, чем тащить испуганного тяжелобольного ребёнка в эпицентр уличных беспорядков. Конечно, там ей стало плохо, и она потеряла сознание.
И тогда Джонс взял её на руки и вынес к полиции. Он остановился напротив сдвинутых полицейских щитов, напротив скрытых забралами лиц и стучащих о щиты дубинок. Броненосец власти – против одинокого священника в длинной чёрной рясе и в очках. Он стоял и молча смотрел на них, держа на руках умирающую девочку. На ней была белая, испачканная кровью кофта, рваные джинсы и только один розовый кед. Эту фотографию показали все мировые СМИ. Для многих она превратилась в икону, такую же, как тот китаец перед танками на площади Тяньаньмэнь.
Полицейские их пропустили. Джонс прошёл. Куда? Удалось ли спасти девочку? Что случилось с ней дальше? Никого не интересовало. Когда Джонс вернулся на площадь, разведя полицейское оцепление руками, словно море, он уже превратился в легенду и символ протеста.
Отныне именно его осуждающий, но в то же время кроткий взгляд из-под потрескавшихся очков, его тонкие изогнутые губы и сведённые в молитве руки с чётками, его проповеди о том, что индульгенции не выдаются «в зависимости от профессии» и политиков на Страшном суде будут судить той же мерой, что и остальных, – вот что стало главной угрозой старому правительству.
Все поняли, что Худзё время уйти, – все, кроме него самого.
Будучи человеком глупым и озлобленным, Худзё являл собой самый опасный в такой ситуации тип: истерик, неспособный успокоиться, и трус, страстно убеждающий себя, что он – человек принципов. В панике он едва не отдал приказ стрелять. Джонс, продолжавший молча стоять против заграждений полиции и отсвечивать своим серебряным крестом в стёкла бэтээров, пал бы первым – и вознёсся на небо. По крайней мере, в глазах обезумевшей толпы, которая бы ринулась на баррикады и превратила город в кровавые руины.
Повторяю, единственное, что меня интересовало, – какого чёрта Худзё до сих пор не опустошил свои сейфы и не свалил в Венесуэлу? Какая тупая сила заставляла его день за днём повторять, что он-де «не уйдёт в отставку»? Каждый день его бараньего упрямства делал Джонса сильнее.
Когда я прилетел, преподобный обнаглел уже до такой степени, что отказывался вести переговоры с кем-либо, кроме посредника из Организации. Как смог бы догадаться даже Худзё, этим посредником был я.
Премьер-министр внушал отвращение. Я сомневался в искренности Джонса, но он хотя бы проявлял определённое мужество, и в каком-то смысле я сочувствовал ему. И хотя Уэллс проинструктировал меня, что Организация не желает радикальных перемен (как всегда), я ещё в самолёте решил: с Худзё и его бандитами мы прощаемся.
Тот это почувствовал. Он примчался встречать меня в аэропорт, приехал прямо к трапу самолёта. Я специально долго не выходил, чем свёл протокол с ума, но я хотел сразу поставить его на место.
Было раннее туманное утро. Я медленно спускался по трапу и прямо видел, как извёлся толстый премьер. Костюм весь помятый, галстук съехал набок, глаза красные, одышка. Неприятно, когда двадцатисемилетний выскочка в пижонском приталенном костюме заставляет тебя ждать? Так надо нормально управлять, а не заниматься онанизмом.
Я пожал ему руку, отринув гигиену, и заверил, что всё будет хорошо, но сесть в его машину отказался и поехал со службами ОКО.
В дороге помощники спросили, что ответить Джонсу, и я согласился на встречу. Сомнений в послушности Худзё у меня почти не было. Несмотря на малоприятные вещи, которыми Организация посылала меня заниматься, несмотря на авгиевы конюшни, которые мне приходилось расчищать, я всегда испытывал приятное чувство от того, что за каждым моим словом – вся мощь Организации. Успокаивает, когда знаешь, что за твоей спиной – самая грандиозная власть, когда-либо распоряжавшаяся на Земле.
Не поймите меня неправильно: я вовсе не был уверен в успехе. Полномочия, которыми меня наделил Уэллс, меня не опьянили. Отставка Худзё – неизбежность. Отставка правительства и перевыборы – пожалуйста, vox populi – vox dei. Реформы – сложнее, это долгая игра, но ради таких задач народы Земли и создали Организацию, так что всё обсуждаемо и всё возможно. А вот судебные процессы над Худзё и его подельниками, вследствие которых могут вскрыться направления некоторых денежных потоков, – уже другая история, но я легко отыграю её у восставших за счёт остальных позиций.
Моё недоверие к Джонсу и его имиджу бессребреника носило положительный характер. Я подозревал в нём человека умного, не лишённого амбиций, но при этом рационального и твёрдого. С другой стороны, в овечьей шкуре Джонс мог прятать клыки фанатика – и если разумного, то тем более опасного. В пользу этой гипотезы были свои аргументы – он не соглашался говорить на нейтральной территории, а требовал меня к себе, без оружия и сопровождения, якобы в знак доброй воли. Он мог взять меня в заложники и торговаться уже не с никчёмным Худзё, а со всей Организацией – мечта любого террориста!
Парадоксально, но на руку Джонсу могло сыграть и моё убийство – безотказный триггер эскалации, если он её добивался. Или он мог оказаться больным параноиком – такие часто возглавляют революции – и прикончить меня по прихоти разыгравшегося воображения.
Каждый из этих сценариев равновероятен. Я рисковал, я положился на удачу, – и хоть в ОКО утверждали, что имеют агентов в окружении Джонса и наедине с ним меня не оставят, а снайперы и дроны над площадью будут меня вести, на всякий случай я всё же набросал заявление, где обвинил в своей смерти Джонса, но просил не применять огнестрельное оружие и не разгонять протестующих. Убей он меня – он разрушил бы все идеалы, за которые боролся, и сам бы себя погубил.
Поэтому я не верил, что мне грозит реальная опасность. На переговоры я шёл в приподнятом настроении: священник, решивший стать политиком, – это всегда интересно! Величайший политик наполеоновских войн Талейран, если помните, был епископом. Такие люди тяготеют к театральности, а знание древних текстов и умение напускать на себя глубокомудрый вид – то, на чём прокалывается большинство, – священники впитывают с семинарской скамьи.
Необязательно разбираться в международной торговле или праве, в истории или монетарной политике, чтобы вести за собой людей. Нужно просто внушать уважение. Показывать, что только вы знаете, куда и зачем идти. Здесь знание теологии помогает больше, чем докторская по Кейнсу, а практика проповеди даст фору любым тренингам по ведению дебатов. Неслучайно комплекс Моисея, который в разной форме присущ большинству успешных политиков, назван в честь религиозного лидера. Адольф Гитлер, кстати, тоже страдал этим неврозом – неплохо отомстили ему психиатры-иудеи.
Был ли комплекс Моисея у Джонса? Намеревался ли он возглавить оппозицию, привести её к победе и занять кресло, продавленное весом Худзё?.. Я знал (и я оказался прав) – одного слова Джонса хватит, чтобы протестующие разошлись. Чего я не ожидал – так это новых требований, которые оказались не столь экстравагантны, сколь необычны в предлагаемых обстоятельствах.
Как и было сказано, я прибыл на Народную площадь. Вокруг полиция, кучи неубранного мусора, люди скрывают лица от камер слежения; я шёл сквозь толпу, мимо импровизированных баррикад, мимо зажжённых фаеров, мимо отключённого фонтана – к наспех возведённому палаточному городку. Меня вели крепкие ребята из портового профсоюза, но значок Организации на лацкане защищал меня лучше любого телохранителя.
Джонс вышел из палатки. Я не сразу узнал его – вживую он отличался от того обличителя несправедливости, которого рисовали СМИ. Он протянул мне руку, слегка поклонился и поправил сползшие на нос очки.
– Никак не успеваю поменять, – сказал он, смешно моргая, – знаете, ведь вокруг сейчас нет ни одной работающей аптеки.
О, эти очки. Уже тогда Джонс начал делать из них, двух круглых линз без оправы, где на правой виднелись две маленькие, но заметные трещинки, символ своей революции. Наверное, он обладал даром провидения. А ещё даром убеждения и харизмой – сегодня-то я понимаю, что Джонс точно знал, что делает. Он специально играл роль маленького, но уверенного в своей правде человека. Человека, который никогда не собирался, да и не хотел восставать – но вот упала девочка, и Бог сказал: «Встань и иди».
– Когда я что-то делаю, я просто стараюсь думать, как бы на моём месте поступил Иисус, – сказал он мне, когда мы устроились в его палатке за пластиковым столом. – Хотите воды или чего-нибудь?..