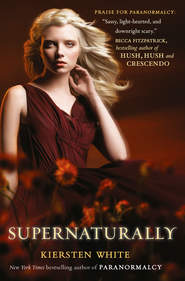По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Смерть в прямом эфире
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Да, это правда я, и да, всё по-настоящему. Нам устроят воссоединение команды в честь тридцатилетнего юбилея окончания шоу. Я лично проверила подкаст. Думаю, они действительно хотят отдать дань телевизионному наследию программы.
Проще всего будет долететь до аэропорта Солт-Лейк-Сити, пересесть на регулярный рейс до Сент-Джорджа, арендовать машину и оттуда ехать дальше. Я бы сама вас забрала, но мое расписание – вечная катастрофа. Кто бы мог подумать, что шесть детей отнимают столько времени? ЛОЛ
Но если вы состыкуетесь, то могли бы приехать вместе. Намного эффективнее и дешевле. Хотя насчет стоимости не волнуйтесь. Спонсоры подкаста компенсируют расходы. В пределах разумного, само собой. Инструкцию, как добраться, прикрепляю во вложении. Знаю, поздновато спохватились, но думаю, встреча – хорошая идея. Многим так и не удается обрести чувство завершенности. Включая нас. Особенно нас.
Надеюсь, вы приедете. Я очень скучала по своим друзьям.
Целую,
Дженни.
Два
– Я хорошо помню тот вечер, когда он объявился, неся тебя на руках.
Глория слепо смотрит в окно над раковиной, опустив ладони в мыльную воду, хотя на самом деле ничего не моет. Снаружи царит прекрасная погода: ослепительно сияет солнце, буйство зелени и золота полно жизни. Не очень-то подходяще для похорон.
Глаза Глории затуманены за очками в голубой оправе, с тщательно подобранной подводкой в тон – и то, и то из моды восьмидесятых годов, как и прическа.
Формально хозяйка фермы занималась всем, но в действительности это означало, что она руководила, пока Вэл выполняла основную работу. Дела всегда обстояли подобным образом, и подготовка дома к поминкам не являлась исключением.
Девушка не возражала. Она не знала, что бы делала без поручений и хлопот, позволявших отвлечься от чувства… Какого? Утраты? Хотя в груди вибрирует нечто более похожее на гнев. Будь на ее месте одна из воспитанниц, Вэл посоветовала бы не торопиться, позволить себе испытывать любые эмоции, которые возникают либо которые просто хочется испытывать.
Папа умер, и она не имеет ни малейшего представления, что это значит для нее. И что меняет, если вообще что-то меняет. Он отсутствовал гораздо дольше, чем был мертв. Так странно глядеть на него, лежащего в гробу, такого спокойного. В лучшем костюме, без привычных рабочих перчаток. Вэл никогда не видела отца без них. Его руки кажутся слишком маленькими и хрупкими, морщинистыми, рябыми. Она с ужасом смотрит на них и жалеет, что сделала это.
Погодите-ка.
– Нес меня на руках? – переспрашивает Вэл.
Ей было восемь лет, когда они приехали на ферму. С какой стати отцу так поступать?
– Знаешь, мы все очень волновались за тебя, – комментирует Глория рассеянно, погруженная в свои мысли. Она достает стакан из мыльной воды, будто сама удивлена тем, как он там оказался. – Ты не разговаривала, совсем. Почти весь первый год. И иногда просто стояла посреди поля с закрытыми глазами, сжав левую руку в кулак и держа его правой, словно не хотела дать пальцам разомкнуться. Всегда одна и та же поза. Я даже начала переживать, всё ли у тебя в порядке. Ну, понимаешь… – хозяйка фермы стучит себя пальцем по виску, точно жест дает исчерпывающие объяснения, оставив на месте прикосновения пузыриться мыльную пену.
– Папа никогда не рассказывал…
Ничего не рассказывал, на самом деле. О чем они вообще говорили, когда он еще был способен связно излагать мысли? О ежедневных хлопотах. О самых примечательных моментах из той нехудожественной литературы, которую он читал в то время. Ни о чем важном, ни о чем таком, что могло бы вызвать какие-либо яркие эмоции. Существовали правила, и они соблюдались неукоснительно. Отец злился, когда Вэл пыталась нарушить их, например, прокрадывалась в дом, чтобы посмотреть телевизор со старшими детьми Глории. Возвращая дочь в их безжизненную лачугу, папа кричал: «Это опасно!»
Хотя он многое считал опасным. Школу. Друзей. Врачей. Вэл потирает запястье в том месте, где образовался рубец после неудачного перелома в двенадцать лет. Отец тогда вправил кости сам. Она пониже натягивает рукава позаимствованного черного платья, чтобы скрыть наросты и шрамы. Скоро начнут прибывать люди – не хочется, чтобы у них возникли лишние вопросы. Пожалуй, в этом отношении у них с отцом по-прежнему много общего.
Сегодня, при посещении кладбища, Вэл впервые за последний год оказалась так далеко от привычных мест. Иногда она забывает, что за пределами фермы существует другой мир – большой, красочный и шумный. Благодаря папе ранчо стало их жизнью. Неплохой жизнью, и всё же…
И всё же.
Теперь, после его смерти, это больше не их жизнь. Только ее. Какие эмоции вызывает данное соображение? Призрак решимости, которую Вэл ощутила на тридцатый день рождения, проплывает мимо нее. Она планировала сбежать, однако у отца случился инсульт. Никаких докторов. Только дочь. И она осталась. И до сих пор находится здесь. Часть души, настроенной покинуть это место, так же мертва, как и папа.
– Нам потребуется больше посуды, – Глория меряет взглядом стопку тарелок, которые Вэл выставила на стол.
– Зачем?
На похороны пришла совсем небольшая группка людей: только сама хозяйка фермы с парой детей, которые сумели приехать, плюс трое рабочих, и то лишь потому, что им нравилась Вэл. Они почти не знали отца, так как в последние годы он не мог свободно передвигаться, однако она всё равно оценила поддержку коллег.
Глория вытирает руки, тянется к шкафу, достает еще посуду и отдает Вэл.
– Я выложила приглашение на поминки на своей страничке в соцсети.
Тарелки летят на пол. Она пораженно переводит взгляд со своих пустых ладоней на осколки.
– Что?
Глория деликатно обходит керамические черепки и берет работницу за руку. Их мозоли практически одинаковые. Затем мягко, будто успокаивая разбушевавшегося на пустом месте Шторма, произносит:
– Он теперь покоится с миром. Никто за ним не явится.
И, потрепав ее по щеке, отправляется в кладовку за метлой. Глория, старомодная уроженка Айдахо со здоровым недоверием к правительству, позволяла Вэл садиться за руль с тех пор, как та начала доставать ногами до педалей, и никогда не переживала по поводу прав, налогов и прочих официальных вещей. То же безразличие распространялось и на отца, который работал здесь еще подростком, а затем заявился на ферму десяток лет спустя с восьмилетней дочкой. По всей видимости, Глория приняла их, и глазом не моргнув, а также не стала расспрашивать, ни почему они не могли устроиться на законных основаниях, ни насчет школы для ребенка, ни о причинах их скрытности и нежелания куда-либо уезжать. Вероятно, просто предположила, что сотрудник совершил нечто незаконное, что в ее глазах не обязательно означало неправильное. Когда обожаемый брат Глории умер от СПИДа, она перестала прислушиваться к мнению окружающих о хорошем и плохом, доверяя только собственным суждениям, которые говорили, что отец Вэл – приличный человек.
Но то, чего Глория не понимала, то, о чем никогда не думала спросить: кого именно они защищали, скрываясь на ферме.
Страх скручивает внутренности Вэл, запертый за самыми старыми, самыми толстыми дверями, и шепчет, что это она причина, по которой они прятались здесь тридцать лет. А не отец.
«Что ты натворила?» – вопит разум, однако не ее голосом. Чьим-то незнакомым. Но что бы она ни натворила, это было плохо.
Она плохая.
Папа знал, что сделала Вэл, именно поэтому так пристально наблюдал за ней. Поэтому никуда не отпускал. «Безопасности», – говорил он в конце дня. Не «Спокойной ночи» и не «Люблю тебя». Неясно, предназначалось пожелание им самим или же всему прочему миру.
Однажды Вэл начала расспрашивать: откуда они приехали? Где ее мать и остались ли другие родственники?
Папа выглядел таким испуганным, что его страх передался и дочери.
– Их больше нет, – прошептал он. – Не спрашивай больше.
Она боялась так сильно, что никогда не повторяла попытки. За все прошедшие годы прежний ужас так и не уменьшился, но Вэл привыкла к нему, научилась упрямо игнорировать тугие кольца страха, стискивавшие внутренности. И несмотря на желание – нет, потребность – знать о том, как умерли родные, спрашивать она не собиралась. Больше никогда.
И вот теперь отец тоже умер. Эта дверь захлопнулась навечно, оставив множество сожалений.
Неважно. Вэл принимает протянутую Глорией метлу и начинает смахивать в сторону осколки разбитых тарелок, после чего заканчивает укладывать еду на подносы и разливать напитки по графинам. Какая необычная традиция – кормить посторонних, когда кто-то умирает. Утешать их, хотя это сирота оставила весь свой мир на кладбище в двадцати минутах езды отсюда.
Хотя, пожалуй, Глория была права насчет посуды. Явилось гораздо больше людей, чем ожидала Вэл. Многие из ее подопечных по летнему лагерю и ученики по верховой езде: некоторые до сих пор еще дети, другие уже выросли, отчего наставница испытывает легкое головокружение и смутную панику. Если уж воспитанники такие взрослые, то какой тогда считать себя? Старой? Но она всё равно рада их видеть, рада иметь перед глазами напоминание, что проведенное вместе время что-то значило и для них.
Работники соседних ферм, трудившиеся там все последние тридцать лет, тоже пришли, чтобы почтить память отца. Они держат шляпы в руках, переминаясь с ноги на ногу в своих самых чистых джинсах и сапогах, и кажется, знали отца Вэл совсем иным человеком – дружелюбным и веселым. Тем, о ком могли рассказывать сейчас с приязнью и благодарностью.
Теперь, наконец, становится ясно, что за чувство грозит утянуть на дно, оставив бездыханной. Это всепоглощающая печаль. Отец должен был иметь всё это при жизни: друзей, приятелей, свое место в мире.
И Вэл тоже хотела бы всё это иметь.
Блестящие, цветастые, скользкие диваны Глории в гостиной забиты битком, везде полно бродящих туда-сюда людей, унаследованный турецкий ковер топчут десятки пар ног. Большой дом старой постройки отказался от веяний современного дизайна с открытой планировкой в пользу раздельных залов. Путешествие из одного пространства в другое неизменно воспринимается как настоящий шок.
Сколько же предстоит уборки, когда все уйдут! Однако свидетельство, что жизнь отца имела значение не только для дочери, искупает любые неудобства. А присутствие такого количества бывших учеников дает надежду, что и жизнь Вэл тоже прошла не зря.
Проще всего будет долететь до аэропорта Солт-Лейк-Сити, пересесть на регулярный рейс до Сент-Джорджа, арендовать машину и оттуда ехать дальше. Я бы сама вас забрала, но мое расписание – вечная катастрофа. Кто бы мог подумать, что шесть детей отнимают столько времени? ЛОЛ
Но если вы состыкуетесь, то могли бы приехать вместе. Намного эффективнее и дешевле. Хотя насчет стоимости не волнуйтесь. Спонсоры подкаста компенсируют расходы. В пределах разумного, само собой. Инструкцию, как добраться, прикрепляю во вложении. Знаю, поздновато спохватились, но думаю, встреча – хорошая идея. Многим так и не удается обрести чувство завершенности. Включая нас. Особенно нас.
Надеюсь, вы приедете. Я очень скучала по своим друзьям.
Целую,
Дженни.
Два
– Я хорошо помню тот вечер, когда он объявился, неся тебя на руках.
Глория слепо смотрит в окно над раковиной, опустив ладони в мыльную воду, хотя на самом деле ничего не моет. Снаружи царит прекрасная погода: ослепительно сияет солнце, буйство зелени и золота полно жизни. Не очень-то подходяще для похорон.
Глаза Глории затуманены за очками в голубой оправе, с тщательно подобранной подводкой в тон – и то, и то из моды восьмидесятых годов, как и прическа.
Формально хозяйка фермы занималась всем, но в действительности это означало, что она руководила, пока Вэл выполняла основную работу. Дела всегда обстояли подобным образом, и подготовка дома к поминкам не являлась исключением.
Девушка не возражала. Она не знала, что бы делала без поручений и хлопот, позволявших отвлечься от чувства… Какого? Утраты? Хотя в груди вибрирует нечто более похожее на гнев. Будь на ее месте одна из воспитанниц, Вэл посоветовала бы не торопиться, позволить себе испытывать любые эмоции, которые возникают либо которые просто хочется испытывать.
Папа умер, и она не имеет ни малейшего представления, что это значит для нее. И что меняет, если вообще что-то меняет. Он отсутствовал гораздо дольше, чем был мертв. Так странно глядеть на него, лежащего в гробу, такого спокойного. В лучшем костюме, без привычных рабочих перчаток. Вэл никогда не видела отца без них. Его руки кажутся слишком маленькими и хрупкими, морщинистыми, рябыми. Она с ужасом смотрит на них и жалеет, что сделала это.
Погодите-ка.
– Нес меня на руках? – переспрашивает Вэл.
Ей было восемь лет, когда они приехали на ферму. С какой стати отцу так поступать?
– Знаешь, мы все очень волновались за тебя, – комментирует Глория рассеянно, погруженная в свои мысли. Она достает стакан из мыльной воды, будто сама удивлена тем, как он там оказался. – Ты не разговаривала, совсем. Почти весь первый год. И иногда просто стояла посреди поля с закрытыми глазами, сжав левую руку в кулак и держа его правой, словно не хотела дать пальцам разомкнуться. Всегда одна и та же поза. Я даже начала переживать, всё ли у тебя в порядке. Ну, понимаешь… – хозяйка фермы стучит себя пальцем по виску, точно жест дает исчерпывающие объяснения, оставив на месте прикосновения пузыриться мыльную пену.
– Папа никогда не рассказывал…
Ничего не рассказывал, на самом деле. О чем они вообще говорили, когда он еще был способен связно излагать мысли? О ежедневных хлопотах. О самых примечательных моментах из той нехудожественной литературы, которую он читал в то время. Ни о чем важном, ни о чем таком, что могло бы вызвать какие-либо яркие эмоции. Существовали правила, и они соблюдались неукоснительно. Отец злился, когда Вэл пыталась нарушить их, например, прокрадывалась в дом, чтобы посмотреть телевизор со старшими детьми Глории. Возвращая дочь в их безжизненную лачугу, папа кричал: «Это опасно!»
Хотя он многое считал опасным. Школу. Друзей. Врачей. Вэл потирает запястье в том месте, где образовался рубец после неудачного перелома в двенадцать лет. Отец тогда вправил кости сам. Она пониже натягивает рукава позаимствованного черного платья, чтобы скрыть наросты и шрамы. Скоро начнут прибывать люди – не хочется, чтобы у них возникли лишние вопросы. Пожалуй, в этом отношении у них с отцом по-прежнему много общего.
Сегодня, при посещении кладбища, Вэл впервые за последний год оказалась так далеко от привычных мест. Иногда она забывает, что за пределами фермы существует другой мир – большой, красочный и шумный. Благодаря папе ранчо стало их жизнью. Неплохой жизнью, и всё же…
И всё же.
Теперь, после его смерти, это больше не их жизнь. Только ее. Какие эмоции вызывает данное соображение? Призрак решимости, которую Вэл ощутила на тридцатый день рождения, проплывает мимо нее. Она планировала сбежать, однако у отца случился инсульт. Никаких докторов. Только дочь. И она осталась. И до сих пор находится здесь. Часть души, настроенной покинуть это место, так же мертва, как и папа.
– Нам потребуется больше посуды, – Глория меряет взглядом стопку тарелок, которые Вэл выставила на стол.
– Зачем?
На похороны пришла совсем небольшая группка людей: только сама хозяйка фермы с парой детей, которые сумели приехать, плюс трое рабочих, и то лишь потому, что им нравилась Вэл. Они почти не знали отца, так как в последние годы он не мог свободно передвигаться, однако она всё равно оценила поддержку коллег.
Глория вытирает руки, тянется к шкафу, достает еще посуду и отдает Вэл.
– Я выложила приглашение на поминки на своей страничке в соцсети.
Тарелки летят на пол. Она пораженно переводит взгляд со своих пустых ладоней на осколки.
– Что?
Глория деликатно обходит керамические черепки и берет работницу за руку. Их мозоли практически одинаковые. Затем мягко, будто успокаивая разбушевавшегося на пустом месте Шторма, произносит:
– Он теперь покоится с миром. Никто за ним не явится.
И, потрепав ее по щеке, отправляется в кладовку за метлой. Глория, старомодная уроженка Айдахо со здоровым недоверием к правительству, позволяла Вэл садиться за руль с тех пор, как та начала доставать ногами до педалей, и никогда не переживала по поводу прав, налогов и прочих официальных вещей. То же безразличие распространялось и на отца, который работал здесь еще подростком, а затем заявился на ферму десяток лет спустя с восьмилетней дочкой. По всей видимости, Глория приняла их, и глазом не моргнув, а также не стала расспрашивать, ни почему они не могли устроиться на законных основаниях, ни насчет школы для ребенка, ни о причинах их скрытности и нежелания куда-либо уезжать. Вероятно, просто предположила, что сотрудник совершил нечто незаконное, что в ее глазах не обязательно означало неправильное. Когда обожаемый брат Глории умер от СПИДа, она перестала прислушиваться к мнению окружающих о хорошем и плохом, доверяя только собственным суждениям, которые говорили, что отец Вэл – приличный человек.
Но то, чего Глория не понимала, то, о чем никогда не думала спросить: кого именно они защищали, скрываясь на ферме.
Страх скручивает внутренности Вэл, запертый за самыми старыми, самыми толстыми дверями, и шепчет, что это она причина, по которой они прятались здесь тридцать лет. А не отец.
«Что ты натворила?» – вопит разум, однако не ее голосом. Чьим-то незнакомым. Но что бы она ни натворила, это было плохо.
Она плохая.
Папа знал, что сделала Вэл, именно поэтому так пристально наблюдал за ней. Поэтому никуда не отпускал. «Безопасности», – говорил он в конце дня. Не «Спокойной ночи» и не «Люблю тебя». Неясно, предназначалось пожелание им самим или же всему прочему миру.
Однажды Вэл начала расспрашивать: откуда они приехали? Где ее мать и остались ли другие родственники?
Папа выглядел таким испуганным, что его страх передался и дочери.
– Их больше нет, – прошептал он. – Не спрашивай больше.
Она боялась так сильно, что никогда не повторяла попытки. За все прошедшие годы прежний ужас так и не уменьшился, но Вэл привыкла к нему, научилась упрямо игнорировать тугие кольца страха, стискивавшие внутренности. И несмотря на желание – нет, потребность – знать о том, как умерли родные, спрашивать она не собиралась. Больше никогда.
И вот теперь отец тоже умер. Эта дверь захлопнулась навечно, оставив множество сожалений.
Неважно. Вэл принимает протянутую Глорией метлу и начинает смахивать в сторону осколки разбитых тарелок, после чего заканчивает укладывать еду на подносы и разливать напитки по графинам. Какая необычная традиция – кормить посторонних, когда кто-то умирает. Утешать их, хотя это сирота оставила весь свой мир на кладбище в двадцати минутах езды отсюда.
Хотя, пожалуй, Глория была права насчет посуды. Явилось гораздо больше людей, чем ожидала Вэл. Многие из ее подопечных по летнему лагерю и ученики по верховой езде: некоторые до сих пор еще дети, другие уже выросли, отчего наставница испытывает легкое головокружение и смутную панику. Если уж воспитанники такие взрослые, то какой тогда считать себя? Старой? Но она всё равно рада их видеть, рада иметь перед глазами напоминание, что проведенное вместе время что-то значило и для них.
Работники соседних ферм, трудившиеся там все последние тридцать лет, тоже пришли, чтобы почтить память отца. Они держат шляпы в руках, переминаясь с ноги на ногу в своих самых чистых джинсах и сапогах, и кажется, знали отца Вэл совсем иным человеком – дружелюбным и веселым. Тем, о ком могли рассказывать сейчас с приязнью и благодарностью.
Теперь, наконец, становится ясно, что за чувство грозит утянуть на дно, оставив бездыханной. Это всепоглощающая печаль. Отец должен был иметь всё это при жизни: друзей, приятелей, свое место в мире.
И Вэл тоже хотела бы всё это иметь.
Блестящие, цветастые, скользкие диваны Глории в гостиной забиты битком, везде полно бродящих туда-сюда людей, унаследованный турецкий ковер топчут десятки пар ног. Большой дом старой постройки отказался от веяний современного дизайна с открытой планировкой в пользу раздельных залов. Путешествие из одного пространства в другое неизменно воспринимается как настоящий шок.
Сколько же предстоит уборки, когда все уйдут! Однако свидетельство, что жизнь отца имела значение не только для дочери, искупает любые неудобства. А присутствие такого количества бывших учеников дает надежду, что и жизнь Вэл тоже прошла не зря.