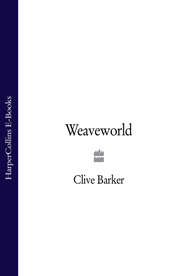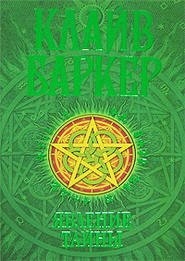По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сотканный мир
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он полулежал-полусидел на кровати, откинувшись на подушки всем своим внушительным телом и заложив руки за массивную голову. У него было широкое лицо, черты которого казались чересчур выразительными, как у актеров, играющих на публику и поднаторевших в дешевых эффектах. Из тысячи видов улыбок он отыскал ту, что наиболее подходила к его расслабленному состоянию, и проговорил:
– Они заставили нас хорошенько попотеть. Но мы почти у цели. Разве ты не чувствуешь? Я чувствую.
Женщина поглядела на него. Он снял пиджак – самый дорогой ее подарок – и перебросил через спинку стула. Рубашка под мышками промокла от пота, а лицо мужчины при дневном свете казалось навощенным. Несмотря на то что она в нем чувствовала – достаточно, чтобы опасаться холодного расчета с его стороны, – он был лишь человек и сегодня, в такую жару и с дороги, выглядел на все свои пятьдесят два. Пока они путешествовали вместе, преследуя Фугу, она отдавала ему свою силу, а он делился с ней знаниями и опытом жизни в этом мире – в Королевстве чокнутых, как семейства называли убогий мир людей, который она вынуждена терпеть ради осуществления мести.
Но совсем скоро погоня закончится. Шедуэлл – человек на кровати – получит в награду то, что они вот-вот настигнут, а женщина будет отомщена, когда эту добычу опорочат и продадут в рабство. После чего она с радостью оставит Королевство, чтобы оно и дальше влачило свое убогое существование.
Она опять сосредоточилась на улице внизу. Шедуэлл прав, их заставили хорошенько попотеть. Однако скоро все завершится.
Со своего места Шедуэлл отчетливо видел вырисовывающийся на фоне окна силуэт Иммаколаты. Не в первый раз он задумался над проблемой: как бы ему продать эту женщину. Разумеется, задача чисто теоретическая, но она требовала напряжения всех его способностей.
Он был торговцем. Продавать – это было его ремесло с самого раннего возраста. Больше, чем ремесло: его талант. Он гордился тем, что на свете нет ничего такого, живого или мертвого, для чего он не сумел бы найти покупателя. В свое время он продавал сахар-сырец, торговал по мелочи оружием, куклами, собаками, страховками от несчастного случая, индульгенциями и осветительными приборами. Он занимался контрабандой Лурдской воды и гашиша, для конспирации прикрываясь китайскими ширмами и патентованными лекарствами. Среди этого парада товаров, конечно же, случались подделки и фальсификации, но не было ничего – ничего! – такого, что он рано или поздно не сумел бы всучить покупателям либо уговорами, либо угрозами.
Однако она – Иммаколата, не совсем женщина, с которой в последние годы он делил всю свою жизнь наяву, – она, насколько он понимал, была не подвластна его дару торговца.
Во-первых, она была парадоксальна, а покупатели редко имеют вкус к подобным вещам. Они хотят то, что лишено какой-либо двусмысленности, простое и безопасное. А Иммаколата не была безопасной, о нет, совсем наоборот – с ее-то жуткими приступами ярости и еще более жуткими приступами восторга. И простой она не была. Ее сияющее красотой лицо, ее глаза, видевшие ход столетий и воспламеняющие кровь, ее смуглая оливковая еврейская кожа – за всем этим таились чувства, способные, если дать им волю, взорвать воздух.
Она слишком своеобразна, чтобы ее продать, заключил Шедуэлл уже не в первый раз и мысленно приказал себе оставить мысли об этом. Тут ему никогда не преуспеть, так зачем же даром ломать голову?
Иммаколата отвернулась от окна.
– Ты уже отдохнул? – спросила она.
– Ты сама хотела спрятаться от солнца, – напомнил Шедуэлл. – Я готов идти, когда скажешь. Хотя я понятия не имею, с чего нам начинать…
– Это не так уж сложно, – отозвалась Иммаколата. – Помнишь, что напророчила моя сестра? События достигли переломного момента.
Когда она произнесла эти слова, тени в углу комнаты снова зашевелились и промелькнули эфирные юбки двух мертвых сестер Иммаколаты. Шедуэлл в их присутствии всегда чувствовал себя неуверенно, а они, со своей стороны, презирали его. Однако Старая Карга, ведьма, несомненно обладала даром предвидения. То, что она видела в отбросах своей сестры Магдалены, обычно сбывалось.
– Фуга не может скрываться и дальше, – сказала Иммаколата. – А как только она начнет двигаться, возникнут вибрации. Это неизбежно. Ведь столько жизни стиснуто в небольшом пространстве!
– А ты чувствуешь какую-нибудь из этих… вибраций? – спросил Шедуэлл, свешивая с кровати ноги и поднимаясь.
Иммаколата покачала головой:
– Нет. Пока еще нет. Но мы должны быть готовы.
Шедуэлл надел свой пиджак. Подкладка заискрилась, рассыпая по комнате лучи соблазна. В мгновенной яркой вспышке он успел заметить Магдалену и Каргу. Старуха прикрыла глаза рукой от света пиджака, опасаясь заключенной в нем силы. Магдалена не обратила внимания на искры – ее веки давным-давно приросли к глазницам, она была слепа от рождения.
– Когда движение начнется, потребуется час или два, чтобы точно определить местоположение, – сказала Иммаколата.
– Час? – переспросил Шедуэлл.
…погоня, приведшая их в конечном итоге сюда, сегодня казалась длинной, как целая жизнь…
– Час я могу подождать.
III
Кто сдвинул Землю?
Пока Кэл приближался к цели, птицы так и кружили над городом. Если одна улетала, на ее место тут же спешили три-четыре новых и присоединялись к стае.
Этот феномен не остался незамеченным. Люди стояли на мостовой и на ступеньках домов, прикрывали руками глаза от ослепительного блеска и вглядывались в небеса. Они обменивались мнениями о причинах подобного сборища. Кэл не стал останавливаться, чтобы предложить свою версию, а продолжил путь по лабиринту улиц. Время от времени ему приходилось возвращаться назад и искать другую дорогу, но с каждым шагом он приближался к эпицентру.
И когда он подошел, стало очевидно: его первоначальная догадка неверна. Птиц привлек не корм. Они не падали стремительно вниз, не ссорились из-за лакомства, в воздухе под ними не было вкусных насекомых. Птицы просто кружили. Те, что поменьше, воробьи и зяблики, уже устали от полета и расселись на крышах домов и на заборах, отделившись от более крупных собратьев – черных ворон, сорок и чаек, заполнивших небо.
Голубей здесь было предостаточно. Дикие сбивались в стаи по полсотни особей и кружили, отбрасывая мелькающие тени на крыши домов. Рядом с ними летали домашние птицы, явно сбежавшие на волю, как Тридцать третий. Канарейки и волнистые попугайчики оторвались от своего проса и колокольчиков, ведомые той же силой, что призвала сюда остальных. Для них пребывание здесь было равно самоубийству. Пока дикие птицы были поглощены происходящим ритуалом, они не обращали внимания на присоединившихся к ним домашних питомцев, но как только действие заклятия спадет, они растеряют свое благодушие. Они станут жестокими и стремительными. Они накинутся на канареек и волнистых попугайчиков, выклюют им глаза и растерзают за то, что те преступно позволили себя приручить.
Но сейчас птичий парламент был спокоен. Птицы поднимались все выше, выше и выше, заполняя весь небосклон.
Следуя за своей целью, Кэл оказался в той части города, куда редко заходил. Здесь простые дома без излишеств, составлявшие муниципальную собственность, уступали место жутковатым запущенным пустырям. Кое-где еще попадались некогда прекрасные трехэтажные дома с террасами, чудом избежавшие сноса, в окружении выровненных площадок. Как островки в море пыли, они дожидались так и не случившегося строительного бума.
Одна из здешних улиц – Рю-стрит, гласила надпись на табличке, – и являлась тем центром, вокруг которого собирались птицы. Вымотанных полетом пернатых здесь было гораздо больше, чем на прилегающих улицах; они щебетали и чистили перья, устроившись на карнизах, печных трубах и телевизионных антеннах.
Кэл внимательно смотрел в небеса и на крыши, шагая по Рю-стрит. И вот (один шанс из тысячи) он увидел свою птицу. Одинокий голубь рассекал стаю воробьев. Кэл долгие годы вглядывался в небо, дожидаясь летящих домой голубей, и приобрел орлиное зрение. Он мог узнать любую знакомую птицу по дюжине особенностей ее полета и теперь нашел Тридцать третьего, без сомнений. Но пока он смотрел, голубь исчез за крышами Рю-стрит.
Кэл снова пустился в погоню по узкому переулку, который почти посередине улицы вклинивался между домами с террасами и выводил в другой переулок, пошире, тянущийся за рядом зданий. Место оказалось порядком запущенным. Всюду громоздились кучи мусора, одинокие урны были перевернуты, их содержимое разбросано вокруг.
В двадцати ярдах от того места, где находился Кэл, шла работа. Два грузчика выволакивали со двора за домом кресло, а третий стоял и глазел на птиц. Несколько сотен пернатых слетелись в этот двор и расселись по стенам, оконным карнизам и перилам. Кэл прошел по переулку, высматривая голубей. Он заметил с дюжину или больше, но беглеца среди них не было.
– Что думаете по этому поводу?
Кэл был теперь в десяти ярдах от грузчиков, и один из них – тот, что стоял без дела, – обратился к нему с этим вопросом.
– Понятия не имею, – чистосердечно ответил Кэл.
– Может, они готовятся к отлету? – предположил младший из тех, что выносили мебель. Он опустил на землю свою сторону кресла и уставился в небо.
– Не говори глупостей, Шейн, – отозвался его напарник, уроженец Западной Индии. Его имя было вышито на спине комбинезона – Гидеон. – С чего бы им улетать посреди клятого лета?
– Слишком жарко, – сказал третий. – Вот в чем причина. Слишком, черт побери, жарко. У них от жары мозги плавятся.
Гидеон тоже отпустил кресло и привалился к стене заднего двора, извлек из нагрудного кармана зажигалку и поднес к наполовину выкуренной сигарете.
– А неплохо быть птицей, – помечтал он вслух. – Пока тепло, болтаешься здесь, а как хвост подморозит, сваливаешь куда-нибудь на юг Франции.
– Птицы живут недолго, – заметил Кэл.
– Правда? – переспросил Гидеон, затягиваясь. Потом пожал плечами. – Недолго, зато весело. Меня вполне бы устроило.
Шейн дернул себя за редкие светлые щетинки над губой, которые, видимо, считал усами.
– А вы разбираетесь в птицах, да? – спросил он у Кэла.
– Только в голубях.
– Гоняете их, что ли?
– Они заставили нас хорошенько попотеть. Но мы почти у цели. Разве ты не чувствуешь? Я чувствую.
Женщина поглядела на него. Он снял пиджак – самый дорогой ее подарок – и перебросил через спинку стула. Рубашка под мышками промокла от пота, а лицо мужчины при дневном свете казалось навощенным. Несмотря на то что она в нем чувствовала – достаточно, чтобы опасаться холодного расчета с его стороны, – он был лишь человек и сегодня, в такую жару и с дороги, выглядел на все свои пятьдесят два. Пока они путешествовали вместе, преследуя Фугу, она отдавала ему свою силу, а он делился с ней знаниями и опытом жизни в этом мире – в Королевстве чокнутых, как семейства называли убогий мир людей, который она вынуждена терпеть ради осуществления мести.
Но совсем скоро погоня закончится. Шедуэлл – человек на кровати – получит в награду то, что они вот-вот настигнут, а женщина будет отомщена, когда эту добычу опорочат и продадут в рабство. После чего она с радостью оставит Королевство, чтобы оно и дальше влачило свое убогое существование.
Она опять сосредоточилась на улице внизу. Шедуэлл прав, их заставили хорошенько попотеть. Однако скоро все завершится.
Со своего места Шедуэлл отчетливо видел вырисовывающийся на фоне окна силуэт Иммаколаты. Не в первый раз он задумался над проблемой: как бы ему продать эту женщину. Разумеется, задача чисто теоретическая, но она требовала напряжения всех его способностей.
Он был торговцем. Продавать – это было его ремесло с самого раннего возраста. Больше, чем ремесло: его талант. Он гордился тем, что на свете нет ничего такого, живого или мертвого, для чего он не сумел бы найти покупателя. В свое время он продавал сахар-сырец, торговал по мелочи оружием, куклами, собаками, страховками от несчастного случая, индульгенциями и осветительными приборами. Он занимался контрабандой Лурдской воды и гашиша, для конспирации прикрываясь китайскими ширмами и патентованными лекарствами. Среди этого парада товаров, конечно же, случались подделки и фальсификации, но не было ничего – ничего! – такого, что он рано или поздно не сумел бы всучить покупателям либо уговорами, либо угрозами.
Однако она – Иммаколата, не совсем женщина, с которой в последние годы он делил всю свою жизнь наяву, – она, насколько он понимал, была не подвластна его дару торговца.
Во-первых, она была парадоксальна, а покупатели редко имеют вкус к подобным вещам. Они хотят то, что лишено какой-либо двусмысленности, простое и безопасное. А Иммаколата не была безопасной, о нет, совсем наоборот – с ее-то жуткими приступами ярости и еще более жуткими приступами восторга. И простой она не была. Ее сияющее красотой лицо, ее глаза, видевшие ход столетий и воспламеняющие кровь, ее смуглая оливковая еврейская кожа – за всем этим таились чувства, способные, если дать им волю, взорвать воздух.
Она слишком своеобразна, чтобы ее продать, заключил Шедуэлл уже не в первый раз и мысленно приказал себе оставить мысли об этом. Тут ему никогда не преуспеть, так зачем же даром ломать голову?
Иммаколата отвернулась от окна.
– Ты уже отдохнул? – спросила она.
– Ты сама хотела спрятаться от солнца, – напомнил Шедуэлл. – Я готов идти, когда скажешь. Хотя я понятия не имею, с чего нам начинать…
– Это не так уж сложно, – отозвалась Иммаколата. – Помнишь, что напророчила моя сестра? События достигли переломного момента.
Когда она произнесла эти слова, тени в углу комнаты снова зашевелились и промелькнули эфирные юбки двух мертвых сестер Иммаколаты. Шедуэлл в их присутствии всегда чувствовал себя неуверенно, а они, со своей стороны, презирали его. Однако Старая Карга, ведьма, несомненно обладала даром предвидения. То, что она видела в отбросах своей сестры Магдалены, обычно сбывалось.
– Фуга не может скрываться и дальше, – сказала Иммаколата. – А как только она начнет двигаться, возникнут вибрации. Это неизбежно. Ведь столько жизни стиснуто в небольшом пространстве!
– А ты чувствуешь какую-нибудь из этих… вибраций? – спросил Шедуэлл, свешивая с кровати ноги и поднимаясь.
Иммаколата покачала головой:
– Нет. Пока еще нет. Но мы должны быть готовы.
Шедуэлл надел свой пиджак. Подкладка заискрилась, рассыпая по комнате лучи соблазна. В мгновенной яркой вспышке он успел заметить Магдалену и Каргу. Старуха прикрыла глаза рукой от света пиджака, опасаясь заключенной в нем силы. Магдалена не обратила внимания на искры – ее веки давным-давно приросли к глазницам, она была слепа от рождения.
– Когда движение начнется, потребуется час или два, чтобы точно определить местоположение, – сказала Иммаколата.
– Час? – переспросил Шедуэлл.
…погоня, приведшая их в конечном итоге сюда, сегодня казалась длинной, как целая жизнь…
– Час я могу подождать.
III
Кто сдвинул Землю?
Пока Кэл приближался к цели, птицы так и кружили над городом. Если одна улетала, на ее место тут же спешили три-четыре новых и присоединялись к стае.
Этот феномен не остался незамеченным. Люди стояли на мостовой и на ступеньках домов, прикрывали руками глаза от ослепительного блеска и вглядывались в небеса. Они обменивались мнениями о причинах подобного сборища. Кэл не стал останавливаться, чтобы предложить свою версию, а продолжил путь по лабиринту улиц. Время от времени ему приходилось возвращаться назад и искать другую дорогу, но с каждым шагом он приближался к эпицентру.
И когда он подошел, стало очевидно: его первоначальная догадка неверна. Птиц привлек не корм. Они не падали стремительно вниз, не ссорились из-за лакомства, в воздухе под ними не было вкусных насекомых. Птицы просто кружили. Те, что поменьше, воробьи и зяблики, уже устали от полета и расселись на крышах домов и на заборах, отделившись от более крупных собратьев – черных ворон, сорок и чаек, заполнивших небо.
Голубей здесь было предостаточно. Дикие сбивались в стаи по полсотни особей и кружили, отбрасывая мелькающие тени на крыши домов. Рядом с ними летали домашние птицы, явно сбежавшие на волю, как Тридцать третий. Канарейки и волнистые попугайчики оторвались от своего проса и колокольчиков, ведомые той же силой, что призвала сюда остальных. Для них пребывание здесь было равно самоубийству. Пока дикие птицы были поглощены происходящим ритуалом, они не обращали внимания на присоединившихся к ним домашних питомцев, но как только действие заклятия спадет, они растеряют свое благодушие. Они станут жестокими и стремительными. Они накинутся на канареек и волнистых попугайчиков, выклюют им глаза и растерзают за то, что те преступно позволили себя приручить.
Но сейчас птичий парламент был спокоен. Птицы поднимались все выше, выше и выше, заполняя весь небосклон.
Следуя за своей целью, Кэл оказался в той части города, куда редко заходил. Здесь простые дома без излишеств, составлявшие муниципальную собственность, уступали место жутковатым запущенным пустырям. Кое-где еще попадались некогда прекрасные трехэтажные дома с террасами, чудом избежавшие сноса, в окружении выровненных площадок. Как островки в море пыли, они дожидались так и не случившегося строительного бума.
Одна из здешних улиц – Рю-стрит, гласила надпись на табличке, – и являлась тем центром, вокруг которого собирались птицы. Вымотанных полетом пернатых здесь было гораздо больше, чем на прилегающих улицах; они щебетали и чистили перья, устроившись на карнизах, печных трубах и телевизионных антеннах.
Кэл внимательно смотрел в небеса и на крыши, шагая по Рю-стрит. И вот (один шанс из тысячи) он увидел свою птицу. Одинокий голубь рассекал стаю воробьев. Кэл долгие годы вглядывался в небо, дожидаясь летящих домой голубей, и приобрел орлиное зрение. Он мог узнать любую знакомую птицу по дюжине особенностей ее полета и теперь нашел Тридцать третьего, без сомнений. Но пока он смотрел, голубь исчез за крышами Рю-стрит.
Кэл снова пустился в погоню по узкому переулку, который почти посередине улицы вклинивался между домами с террасами и выводил в другой переулок, пошире, тянущийся за рядом зданий. Место оказалось порядком запущенным. Всюду громоздились кучи мусора, одинокие урны были перевернуты, их содержимое разбросано вокруг.
В двадцати ярдах от того места, где находился Кэл, шла работа. Два грузчика выволакивали со двора за домом кресло, а третий стоял и глазел на птиц. Несколько сотен пернатых слетелись в этот двор и расселись по стенам, оконным карнизам и перилам. Кэл прошел по переулку, высматривая голубей. Он заметил с дюжину или больше, но беглеца среди них не было.
– Что думаете по этому поводу?
Кэл был теперь в десяти ярдах от грузчиков, и один из них – тот, что стоял без дела, – обратился к нему с этим вопросом.
– Понятия не имею, – чистосердечно ответил Кэл.
– Может, они готовятся к отлету? – предположил младший из тех, что выносили мебель. Он опустил на землю свою сторону кресла и уставился в небо.
– Не говори глупостей, Шейн, – отозвался его напарник, уроженец Западной Индии. Его имя было вышито на спине комбинезона – Гидеон. – С чего бы им улетать посреди клятого лета?
– Слишком жарко, – сказал третий. – Вот в чем причина. Слишком, черт побери, жарко. У них от жары мозги плавятся.
Гидеон тоже отпустил кресло и привалился к стене заднего двора, извлек из нагрудного кармана зажигалку и поднес к наполовину выкуренной сигарете.
– А неплохо быть птицей, – помечтал он вслух. – Пока тепло, болтаешься здесь, а как хвост подморозит, сваливаешь куда-нибудь на юг Франции.
– Птицы живут недолго, – заметил Кэл.
– Правда? – переспросил Гидеон, затягиваясь. Потом пожал плечами. – Недолго, зато весело. Меня вполне бы устроило.
Шейн дернул себя за редкие светлые щетинки над губой, которые, видимо, считал усами.
– А вы разбираетесь в птицах, да? – спросил он у Кэла.
– Только в голубях.
– Гоняете их, что ли?